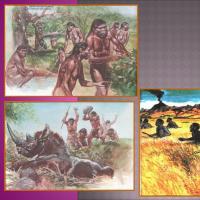Николай Гумилёв и акмеистическая ирония. Акмеизм и акммеиты гумилев Н гумилев и поэты акмеисты
Одну из своих главных задач акмеисты усматривали в том, чтобы противопоставить себя предшествующей литературной эпохе — эпохе "громких слов" и небывалой экзальтации. "Сразу взяли самую высокую, напряжённую ноту, оглушили себя сами и не использовали голоса как органическую способность развития", — писал позднее Осип Мандельштам, подводя итоги деятельности символистов (Мандельштам О. Э. Соч.: В 2 т. М., 1990. Т. 2. С. 264).
Возможность говорить о сокровенном, избегая излишнего пафоса, акмеисты получили, взглянув на окружающий мир сквозь призму иронии. "Светлая ирония, не подрывающая корней нашей веры, — ирония, которая не могла не проявляться хоть изредка у романских писателей, — стала теперь на место той безнадёжной немецкой серьёзности, которую так возлелеяли наши символисты", — утверждал Николай Гумилёв в своей программной статье "Наследие символизма и акмеизм" (Гумилёв Н. С. Соч.: В 3 т. М., 1991. Т. 3. С. 17).
"Иронический спектр" был представлен в поэзии акмеистов чрезвычайно широко.
От перенятой у Диккенса и Андерсена мягкой усмешки в стихах Ахматовой:
А мальчик мне сказал, боясь,
Совсем взволнованно и тихо,
Что там живёт большой карась
И с ним большая карасиха.
("Цветов и неживых вещей...", 1913)
И Мандельштама:
Подруга шарманки, появится вдруг
Бродячего ледника пёстрая крышка —
И с жадным вниманием смотрит мальчишка
В чудесного холода полный сундук.
(«"Мороженно!" Солнце. Воздушный бисквит...», 1914)
До грубоватого сарказма Владимира Нарбута, чьи строки заставляют вспомнить о гоголевских "Вечерах на хуторе близ Диканьки":
Мясистый нос, обрезком колбасы
нависший на мышастые усы,
проросший жилками (от ражей лени), —
похож был вельми на листок осенний.
(Портрет, 1914)
Иронические стихи самого Гумилёва ориентированы на две, во многом противоположные друг другу традиции.
Высокой, романтической традиции Гумилёв следовал, например, создавая свой "Ислам" (1916), вошедший в акмеистическую книгу поэта "Колчан":
В ночном кафе мы молча пили кьянти,
Когда вошёл, спросивши шерри-бренди,
Высокий и седеющий эффенди,
Враг злейший христиан на всём Леванте.
И я ему заметил: "Перестаньте,
Мой друг, презрительного корчить дэнди
В тот час, когда, быть может, по легенде
В зелёный сумрак входит Дамаянти".
Но он, ногою топнув, крикнул: "Бабы!
Вы знаете ль, что чёрный камень Кабы
Поддельным признан был на той неделе?"
Потом вздохнул, задумавшись глубоко,
И прошептал с печалью: "Мыши съели
Три волоска из бороды пророка".
Очевидным прообразом этого стихотворения послужил рассказ Эдгара По "Бон-Бон", в котором к ресторатору Бон-Бону, в "ночное кафе" является дьявол, пьёт с ним вино (уж не то ли самое шерри-бренди, которое упоминается в позднейшем ироническом стихотворении Мандельштама "Я скажу тебе с последней прямотой..."?) и ведёт с хозяином кафе метафизические споры. Напомним, что именно о великом американском романтике Гумилёв писал В.Я. Брюсову: "Из поэтов больше всего люблю Эдгара По, которого знаю по переводам Бальмонта и Вас" (Лит. наследство. 1994. Т. 98. Кн. 2. С. 414; об акмеистах и Эдгаре По см. подробнее: Лекманов О. А. Мандельштам и Эдгар По (К теме: "постсимволисты и романтики") // Постсимволизм как явление культуры. М., 1995. С. 39-41).
Через пять страниц после "Ислама" в книге "Колчан" напечатано стихотворение, восходящее совсем к другой традиции. Речь идёт о стихотворении "Почтовый чиновник" (1914), которое в первоначальной публикации имело заглавие "Мотив для гитары":
Ушла... Завяли ветки
Сирени голубой,
И даже чижик в клетке
Заплакал надо мной.
Что пользы, глупый чижик,
Что пользы нам грустить.
Она теперь в Париже,
В Берлине, может быть.
Страшнее страшных пугал
Красивым честный путь,
И нам в наш тихий угол
Беглянки не вернуть.
От Знаменья псаломщик
В цилиндре на боку,
Большой, костлявый, тощий,
Зайдёт попить чайку.
На днях его подруга
Ушла в веселый дом,
И мы теперь друг друга,
Наверное, поймём.
Мы ничего не знаем.
Ни как, ни почему.
Весь мир необитаем.
Неясен он уму.
А песню вырвет мука.
Так старая она:
"Разлука ты, разлука,
Чужая сторона!"
Н. А. Богомолов указал, что это стихотворение перекликается с "Телеграфистом" Андрея Белого (Гумилёв Н. С. Указ. соч. Т. 1. С. 522). Однако не менее существенным источником образности стихотворения Гумилёва является стихотворение "сатириконца" Саши Чёрного "Колыбельная (Для мужского голоса )", созданное в 1910 году. Оно вошло в книгу Саши Чёрного "Сатиры и лирика", которую Гумилёв рецензировал в пятом номере "Аполлона" за 1912 год:
Мать уехала в Париж...
И не надо! Спи, мой чиж.
А-а-а! Молчи, мой сын,
Нет последствий без причин.
Чёрный, гладкий таракан
Важно лезет под ди-ван,
От него жена в Париж
Не сбежит, о нет! шалишь!
С нами скучно. Мать права.
Новый
гладок, как Бова,
Новый
гладок и богат,
С ним не скучно... Так-то, брат!
А-а-а! Огонь горит,
Добрый снег окно пушит.
Спи, мой кролик, а-а-а!
Всё на свете трын-трава...
Жили-были два крота.
Вынь-ка ножку изо рта!
Спи, мой зайчик, спи, мой чиж, —
Мать уехала в Париж.
Чей ты? Мой или его?
Спи, мой мальчик, ничего!
Не смотри в мои глаза...
Жили козлик и коза...
Кот козу увёз в Париж...
Спи, мой котик, спи, мой чиж!
Через... год... вернётся... мать...
Сына нового рожать...
Если "Колыбельная" Саши Чёрного в очередной раз варьирует любимый сюжет поэта о пошлой и беспросветной жизни маленького человека, предпоследняя строфа гумилёвского "Почтового чиновника" как бы превращает мещанский "жестокий романс" в монолог нового Гамлета:
Мы ничего не знаем.
Ни как, ни почему.
Весь мир необитаем.
Неясен он уму.
Ср. в одной из "Александрийских песен" Михаила Кузмина: "Что мы знаем? / Что нам знать?".
"Вечные", волнующие символистов вопросы заданы, но заданы они как бы мимоходом, без нажима и аффектации. Ср., например, со строками из стихотворения Фёдора Сологуба "Больному сердцу любо..." (1896), написанному на ту же тему, что и "Почтовый чиновник" и тем же трёхстопным ямбом:
Кто дал мне землю, воды.
Огонь и небеса,
И не дал мне свободы,
И отнял чудеса?
На прахе охладелом
Былого бытия
Свободою и телом
Томлюсь безумно я.
Введение
К эпохе серебряного века принадлежат символизм и акмеизм, футуризм и эгофутуризм и многие другие течения. "И хотя мы зовем это время серебряным, а не золотым веком, может быть, оно было самой творческой эпохой в российской истории" .
1. Акмеизм.
Акмеизм возник в 1910 - е годы в "кружке молодых", поначалу близких символизму поэтов. Стимулом к их сближению была оппозиционность к символической поэтической практике, стремление преодолеть умозрительность и утопизм символических теорий.
Акмеисты провозгласили своими принципами:
освобождение поэзии от символистских призывов к идеальному, возвращение ей ясности, вещности, "радостного любования бытием";
стремление придать слову определенное точное значение, основывать произведения на конкретной образности, требование "прекрасной ясности";
обращение к человеку к "подлинности его чувств";поэтизацию мира первозданных эмоций, первобытно - биологического природного начала, доисторической жизни Земли и человека. AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
В октябре 1911 года было основано новое литературное объединение - "Цех поэтов". Название кружка указывало на отношение участников к поэзии как к чисто профессиональной сфере деятельности. "Цех" был школой формального мастерства, безразличного к особенностям мировоззрения участников. Руководителями "Цеха" стали Н. Гумилев и С. Городецкий.
Из широкого круга участников "Цеха" выделилась более узкая и эстетическая более сплоченная группа: Н. Гумилев, А. Ахматова, С. Городецкий, О. Мандельштам, М. Зенкевич и В. Нарбут. Они составили ядро акмеистов. Другие участники "Цеха" (среди них Г. Адамович, Г. Иванов, М. Лозинский и другие), не являясь правоверными акмеистами, представляли периферию течения. Акмеисты издали десять номеров своего журнала "Гиперборей" (редактор М. Лозинский), а также несколько альманахов "Цеха поэтов".
Главное значение в поэзии акмеизма приобретает художественное освоение многообразного и яркого земного мира. Акмеистами ценились такие элементы формы, как стилистическое равновесие, живописная четкость образов, точно вымеренная композиция, отточенность деталей. В их стихах эстетизировались хрупкие грани вещей, утверждалась "домашняя" атмосфера любования "милыми мелочами".
Акмеисты выработали тонкие способы передачи внутреннего мира лирического героя. Часто состояние чувств не раскрывалось непосредственно, оно передавалось психологически значимым жестом, перечислением вещей. Подобная манера "материлизации" переживаний была характерна, например, для многих стихотворений А. Ахматовой.
Пристальное внимание акмеистов к материальному, вещному миру не означало их отказа от духовных поисков. Со временем, особенно после начала Первой мировой войны, утверждение высших духовных ценностей стало основой творчества бывших акмеистов. Настойчиво зазвучали мотивы совести, сомнения, душевной тревоги и даже самоосуждения (стихотворение Н. Гумилева "Слово", 1921). Высшее место в иерархии акмеистических ценностей занимала культура. "Тоской по мировой культуре" назвал акмеизм О. Мандельштам. Если символисты оправдывали культуру внешними по отношению к ней целями, (для них она - средство преображения жизни), а футуристы стремились к ее прикладному использованию (принимали ее в меру материальной полезности), то для акмеистов культура была целью себе самой.
С этим связано и особое отношение к категории памяти. Память - важнейший этический компонент в творчестве трех самых значительных представителей акмеизма - А. Ахматовой, Н. Гумилева и О. Мандельштама. В эпоху футуристического бунта против традиций акмеизм выступил за сохранение культурных ценностей, потому что мировая культура была для них тождественной общей памяти человечества.
Акмеистическая программа ненадолго сплотила самых значительных поэтов этого течения. К началу Первой мировой войны рамки единой поэтической школы оказались для них тесны, и каждый из акмеистов пошел своим путем. подобная эволюция, связанная с преодолением эстетической доктрины течения, была характерна и для лидера акмеизма Н. Гумилева. На раннем этапе формирования акмеизма существенное влияние на новое поколение поэтов оказывали взгляды и творческая практика М.А. Кузмина, ставшего, наряду с И.Ф. Анненским, одним их "учителей" акмеистов. Ощутить существо стилистической реформы, предложенной акмеистами, поможет последовательное обращение к творчеству лидера нового течения Н. Гумилева.
2. Творчество Николая Гумилева
Николай Степанович Гумилев прожил очень яркую, но короткую, насильственно прерванную жизнь. Огульно обвиненный в антисоветском заговоре, он был расстрелян. Погиб на творческом взлете, полный ярких замыслов, всеми признанный Поэт, теоретик стиха, активный деятель литературного фронта.
И свыше шести десятков лет его произведения не переиздавались, на все им созданное был наложен жесточайший запрет. Само имя Гумилева обходили молчанием. Лишь в 1987 году стало возможно открыто сказать о его невиновности.
Вся жизнь Гумилева, вплоть до трагической его смерти, - необычна, увлекательна, свидетельствует о редком мужестве и силе духа удивительной личности. Причем ее становление протекало в спокойной, ничем не замечательной обстановке. Испытания Гумилев находил себе сам.
Будущий поэт родился в семье корабельного врача в Кронштадте. Учился в Царскосельской гимназии. В 1900-1903 гг. жил в Грузии, куда получил назначение отец. По возвращении семьи продолжал занятия в Николаевской царскосельской гимназии, которую закончил в 1906 г. Однако уже в это время он отдается своему страстному увлечению поэзией.
Первое стихотворение публикует в «Тифлисском листке» (1902), а в 1905 г.- целую книжку стихов «Путь конквистадоров». С тех пор, как сам позже заметил, им целиком завладевает «наслаждение творчеством, таким божественно-сложным и радостно-трудным».
Творческое воображение пробудило в Гумилеве жажду познания мира. Он едет в Париж для изучения французской литературы. Но покидает Сорбонну и отправляется, несмотря на строгий запрет отца, в Африку. Мечта увидеть загадочные земли изменяет все прежние планы. За первой поездкой (1907) последовали еще три в период с 1908 по 1913 г., последняя в составе организованной самим Гумилевым этнографической экспедиции.
В Африке он пережил много лишений, болезней, на опасные, грозившие смертью испытания шел по собственному желанию. А в результате привез из Абиссинии ценные материалы для Петербургского Музея этнографии.
Введение
К эпохе серебряного века принадлежат символизм и акмеизм, футуризм и эгофутуризм и многие другие течения. "И хотя мы зовем это время серебряным, а не золотым веком, может быть, оно было самой творческой эпохой в российской истории" .
1. Акмеизм.
Акмеизм возник в 1910 - е годы в "кружке молодых", поначалу близких символизму поэтов. Стимулом к их сближению была оппозиционность к символической поэтической практике, стремление преодолеть умозрительность и утопизм символических теорий.
Акмеисты провозгласили своими принципами:
освобождение поэзии от символистских призывов к идеальному, возвращение ей ясности, вещности, "радостного любования бытием";
стремление придать слову определенное точное значение, основывать произведения на конкретной образности, требование "прекрасной ясности";
обращение к человеку к "подлинности его чувств";поэтизацию мира первозданных эмоций, первобытно - биологического природного начала, доисторической жизни Земли и человека.
В октябре 1911 года было основано новое литературное объединение - "Цех поэтов". Название кружка указывало на отношение участников к поэзии как к чисто профессиональной сфере деятельности. "Цех" был школой формального мастерства, безразличного к особенностям мировоззрения участников. Руководителями "Цеха" стали Н. Гумилев и С. Городецкий.
Из широкого круга участников "Цеха" выделилась более узкая и эстетическая более сплоченная группа: Н. Гумилев, А. Ахматова, С. Городецкий, О. Мандельштам, М. Зенкевич и В. Нарбут. Они составили ядро акмеистов. Другие участники "Цеха" (среди них Г. Адамович, Г. Иванов, М. Лозинский и другие), не являясь правоверными акмеистами, представляли периферию течения. Акмеисты издали десять номеров своего журнала "Гиперборей" (редактор М. Лозинский), а также несколько альманахов "Цеха поэтов".
Главное значение в поэзии акмеизма приобретает художественное освоение многообразного и яркого земного мира. Акмеистами ценились такие элементы формы, как стилистическое равновесие, живописная четкость образов, точно вымеренная композиция, отточенность деталей. В их стихах эстетизировались хрупкие грани вещей, утверждалась "домашняя" атмосфера любования "милыми мелочами".
Акмеисты выработали тонкие способы передачи внутреннего мира лирического героя. Часто состояние чувств не раскрывалось непосредственно, оно передавалось психологически значимым жестом, перечислением вещей. Подобная манера "материлизации" переживаний была характерна, например, для многих стихотворений А. Ахматовой.
Пристальное внимание акмеистов к материальному, вещному миру не означало их отказа от духовных поисков. Со временем, особенно после начала Первой мировой войны, утверждение высших духовных ценностей стало основой творчества бывших акмеистов. Настойчиво зазвучали мотивы совести, сомнения, душевной тревоги и даже самоосуждения (стихотворение Н. Гумилева "Слово", 1921). Высшее место в иерархии акмеистических ценностей занимала культура. "Тоской по мировой культуре" назвал акмеизм О. Мандельштам. Если символисты оправдывали культуру внешними по отношению к ней целями, (для них она - средство преображения жизни), а футуристы стремились к ее прикладному использованию (принимали ее в меру материальной полезности), то для акмеистов культура была целью себе самой.
С этим связано и особое отношение к категории памяти. Память - важнейший этический компонент в творчестве трех самых значительных представителей акмеизма - А. Ахматовой, Н. Гумилева и О. Мандельштама. В эпоху футуристического бунта против традиций акмеизм выступил за сохранение культурных ценностей, потому что мировая культура была для них тождественной общей памяти человечества.
Акмеистическая программа ненадолго сплотила самых значительных поэтов этого течения. К началу Первой мировой войны рамки единой поэтической школы оказались для них тесны, и каждый из акмеистов пошел своим путем. подобная эволюция, связанная с преодолением эстетической доктрины течения, была характерна и для лидера акмеизма Н. Гумилева. На раннем этапе формирования акмеизма существенное влияние на новое поколение поэтов оказывали взгляды и творческая практика М.А. Кузмина, ставшего, наряду с И.Ф. Анненским, одним их "учителей" акмеистов. Ощутить существо стилистической реформы, предложенной акмеистами, поможет последовательное обращение к творчеству лидера нового течения Н. Гумилева.
2. Творчество Николая Гумилева
Николай Степанович Гумилев прожил очень яркую, но короткую, насильственно прерванную жизнь. Огульно обвиненный в антисоветском заговоре, он был расстрелян. Погиб на творческом взлете, полный ярких замыслов, всеми признанный Поэт, теоретик стиха, активный деятель литературного фронта.
И свыше шести десятков лет его произведения не переиздавались, на все им созданное был наложен жесточайший запрет. Само имя Гумилева обходили молчанием. Лишь в 1987 году стало возможно открыто сказать о его невиновности.
Вся жизнь Гумилева, вплоть до трагической его смерти, - необычна, увлекательна, свидетельствует о редком мужестве и силе духа удивительной личности. Причем ее становление протекало в спокойной, ничем не замечательной обстановке. Испытания Гумилев находил себе сам.
Будущий поэт родился в семье корабельного врача в Кронштадте. Учился в Царскосельской гимназии. В 1900-1903 гг. жил в Грузии, куда получил назначение отец. По возвращении семьи продолжал занятия в Николаевской царскосельской гимназии, которую закончил в 1906 г. Однако уже в это время он отдается своему страстному увлечению поэзией.
Первое стихотворение публикует в «Тифлисском листке» (1902), а в 1905 г.- целую книжку стихов «Путь конквистадоров». С тех пор, как сам позже заметил, им целиком завладевает «наслаждение творчеством, таким божественно-сложным и радостно-трудным».
Творческое воображение пробудило в Гумилеве жажду познания мира. Он едет в Париж для изучения французской литературы. Но покидает Сорбонну и отправляется, несмотря на строгий запрет отца, в Африку. Мечта увидеть загадочные земли изменяет все прежние планы. За первой поездкой (1907) последовали еще три в период с 1908 по 1913 г., последняя в составе организованной самим Гумилевым этнографической экспедиции.
В Африке он пережил много лишений, болезней, на опасные, грозившие смертью испытания шел по собственному желанию. А в результате привез из Абиссинии ценные материалы для Петербургского Музея этнографии.
Обычно считают, что Гумилев стремился только к экзотике. Страсть к путешествиям, скорее всего, была вторичной. В. Брюсову он объяснил ее так: «...думаю уехать на полгода в Абиссинию, чтобы в новой обстановке найти новые слова». О зрелости поэтического видения неотступно думал Гумилев.
В первую мировую войну ушел добровольцем на фронт. В корреспонденциях с места военных действий отразил их трагическую сущность. Не счел нужным обезопасить себя и участвовал в самых ответственных маневрах. В мае 1917 г. уехал по собственному желанию на Салоникскую (Греция) операцию Антанты.
На родину Гумилев вернулся лишь в апреле 1918 года. И сразу включился в напряженную деятельность по созданию новой культуры: читал лекции в институте Истории искусств, работал в редколлегии издательства «Всемирная литература», в семинаре пролетарских поэтов, во многих других областях культуры.
Перенасыщенная событиями жизнь не помешала стремительному развитию и расцвету редкого таланта. Один за другим выходят поэтические сборники Гумилева: 1905 - «Путь конквистадоров», 1908 - «Романтические цветы», 1910 - «Жемчуга», 1912 - «Чужое небо», 1916 - «Колчан», 1918 - «Костер», «Фарфоровый павильон» и поэма «Мик», 1921 - «Шатер» и «Огненный столп».
Писал Гумилев и прозу, драмы, вел своеобразную летопись поэзии, занимался теорией стиха, откликался на явления искусства других стран. Как он сумел все это вместить в какие-то полтора десятка лет, остается секретом. Но сумел и сразу привлек внимание известных деятелей литературы.
Жажда открытия неведомой красоты все-таки не была удовлетворена. Этой заветной теме посвящены яркие, зрелые стихи, собранные в книге «Жемчуга». От прославления романтических идеалов поэт пришел к теме исканий, собственных и общечеловеческих. «Чувством пути» (определение Блока; здесь перекликнулись художники, хотя и разное ищущие) проникнут сборник «Жемчуга». Самое его название исходит от образа прекрасных стран: «Куда не ступала людская нога,/Где в солнечных рощах живут великаны/И светят в прозрачной воде жемчуга». Открытие ценностей оправдывает и одухотворяет жизнь. Символом этих ценностей и стали жемчуга. А символом поиска - путешествие. Так реагировал Гумилев на духовную атмосферу своего времени, когда определение новой позиции было, главным.
По-прежнему лирический герой поэта неиссякаемо мужествен. В пути: оголенный утес с драконом - «вздох» его - огненный смерч». Но покоритель вершин не знает отступлений: «Лучше слепое Ничто,/Чем золотое Вчера...» Поэтому так влечет полет гордого орла. Авторская фантазия как бы дорисовывает перспективу его движения - «не зная тленья, он летел вперед»:
Он умер, да! Но он не мог упасть,
Войдя в круги планетного движенья,
Бездонная внизу зияла пасть,
Но были слабы силы притяженья.
Небольшой цикл «Капитаны», о котором так много высказывалось несправедливых суждений, рожден тем же стремлением вперед, тем же преклонением перед подвигом:
«Ни один пред грозой не трепещет,
Ни один не свернет паруса».
Гумилеву дороги деяния незабвенных путешественников: Гонзальво и Кука, Лаперуза и де Гама... С их именами входит в «Капитаны» поэзия великих открытий, несгибаемой силы духа всех, «кто дерзает, кто хочет, кто ищет» (не здесь ли нужно видеть причину суровости, ранее социологически истолкованной: «Или, бунт на борту обнаружив,/Из-за пояса рвет пистолет»?).
В «Жемчугах» есть точные реалии, скажем, в картине береговой жизни моряков («Капитаны»). Однако, отвлекаясь от скучного настоящего, поэт ищет созвучий с богатым миром свершений и свободно перемещает свой взгляд в пространстве и времени. Возникают образы разных веков и стран, в частности вынесенные в заглавия стихотворений: «Старый конквистадор», «Варвары», «Рыцарь с цепью», «Путешествие в Китай». Именно движение вперед дает уверенность автору в избранной идее пути. А также - форму выражения.
Ощутимы в «Жемчугах» и трагические мотивы - неведомых врагов, «чудовищного горя». Такова власть бесславного окружающего. Его яды проникают в сознание лирического героя. «Всегда узорный сад души» превращается в висячий сад, куда так страшно, так низко наклоняется лик луны - не солнца.
Испытания любви исполнены глубокой горечи. Теперь пугают не измены, как в ранних стихах, а потеря «уменья летать»: знаки «мертвой томительной скуки»; «поцелуи - окрашены кровью»; желание «заворожить садов мучительную даль»; в смерти найти «острова совершенного счастья».
Смело проявлено подлинно гумилевское - поиск страны счастья даже за чертой бытия. Чем мрачнее впечатления, тем упорнее тяготение к свету. Лирический герой стремится к предельно сильным испытаниям: «Я еще один раз отпылаю упоительной жизнью огня». Творчество - тоже вид самосожжения: «На, владей волшебной скрипкой, посмотри в глаза чудовищ/И погибни славной смертью, страшной смертью скрипача».
В статье «Жизнь стиха» Гумилев писал: «Под жестом в стихотворении я подразумеваю такую расстановку слов, подбор гласных и согласных звуков, ускорений и замедлений ритма, что читающий стихотворение невольно становится в позу героя, испытывает то же, что сам поэт...» Таким мастерством владел Гумилев.
Неутомимый поиск определил активную позицию Гумилева в литературной среде. Он скоро становится видным сотрудником журнала «Аполлон», организует «Цех поэтов», а в 1913 г. вместе с С. Городецким формирует группу акмеистов.
Самый акмеистический сборник «Чужое небо» (1912) был тоже логичным продолжением предшествующих, но продолжением иного устремления, иных замыслов.
В «чужом небе» снова ощущается беспокойный дух поиска. В сборник были включены небольшие поэмы «Блудный сын» и «Открытие Америки». Казалось бы, они написаны на подлинно гумилевскую тему, но как она изменилась!
Рядом с Колумбом в «Открытии Америки» встала не менее значительная героиня - Муза Дальних Странствий. Автора теперь увлекает не величие деяния, а его смысл и душа избранника судьбы. Может быть, впервые во внутреннем облике героев-путешественников нет гармонии. Сравним внутреннее состояние Колумба до и после его путешествия: Чудо он духовным видит оком.
Целый мир, неведомый пророкам,
Что залег в пучинах голубых,
Там, где запад сходится с востоком.
А затем Колумб о себе: Раковина я, но без жемчужин,
Я поток, который был запружен.
Спущенный, теперь уже не нужен.
«Как любовник, для игры другой
Он покинут Музой Дальних Странствий».
Аналогия с устремлениями художника безусловна и грустна. «Жемчужины» нет, шалунья муза покинула дерзновенного. О цели поиска задумывается поэт.
Пора юношеских иллюзий прошла. Да и рубеж конца 1900-х - начала 1910-х гг. был для многих трудным, переломным. Чувствовал это и Гумилев. Еще весной 1909 г. он сказал в связи с книгой критических статей И. Анненского: «Мир стал больше человека. Взрослый человек (много ли их?) рад борьбе. Он гибок, он силен, он верит в свое право найти землю, где можно было бы жить». К тому же стремился и в творчестве. В «Чужом небе» - явственная попытка установить подлинные ценности сущего, желанную гармонию.
Гумилева влечет феномен жизни. В необычном и емком образе представлена она - «с иронической усмешкой царь-ребенок на шкуре льва, забывающий игрушки между белых усталых рук». Таинственна, сложна, противоречива и маняща жизнь. Но сущность ее ускользает. Отвергнув зыбкий свет неведомых «жемчужин», поэт все-таки оказывается во власти прежних представлений - о спасительном движении к дальним пределам: Мы идем сквозь туманные годы,
Смутно чувствуя веянье роз,
У веков, у пространств, у природы
Отвоевывать древний Родос.
А как же смысл человеческого бытия? Ответ на этот вопрос для себя Гумилев находит у Теофиля Готье. В посвященной ему статье русский поэт выделяет близкие им обоим принципы: избегать «как случайного, конкретного, так и туманного, отвлеченного»; познать «величественный идеал жизни в искусстве и для искусства». Неразрешимое оказывается прерогативой художественной практики. В «Чужое небо» включает Гумилев подборку стихов Готье в своем переводе. Среди них - вдохновенные строки о созданной человеком нетленной красоте. Вот идея на века:
Все прах.- Одно, ликуя,
Искусство не умрет.
Переживет народ.
Так созревали идеи «акмеизма». А в поэзии отливались «бессмертные черты» увиденного, пережитого. В том числе и в Африке. В сборник вошли «Абиссинские песни»: «Военная», «Пять быков», «Невольничья», «Занзибарские девушки» и др. В них, в отличие от других стихотворений, много сочных реалий: бытовых, социальных. Исключение понятное. «Песни» творчески интерпретировали фольклорные произведения абиссинцев. В целом же путь от жизненного наблюдения к образу у Гумилева очень непростой.
Внимание художника к окружающему всегда было обостренным.
Однажды он сказал: «У поэта должно быть плюшкинское хозяйство. И веревочка пригодится. Ничего не должно пропадать даром. Все для стихов». Способность сохранить даже «веревочку» ясно ощущается в «Африканском дневнике», рассказах, непосредственном отклике на события первой мировой войны - «Записках кавалериста». Но, по словам Гумилева, «стихи - одно, а жизнь - другое». В «Искусстве» (из переводов Готье) есть сходное утверждение:
«Созданье тем прекрасней,
Чем взятый материал
Бесстрастней».
Таким он и был в лирике Гумилева. Конкретные признаки исчезали, взгляд охватывал общее, значительное. Зато авторские чувства, рожденные живыми впечатлениями, обретали гибкость и силу, рождали смелые ассоциации, притяжение к иным зовам мира, а образ обретал зримую «вещность».
Сборник стихов «Колчан» (1916) долгие годы не прощали Гумилеву, обвиняя его в шовинизме. Мотивы победной борьбы с Германией, подвижничества на поле брани были у Гумилева, как, впрочем, и у других писателей этого времени. Патриотические настроения были близки многим. Отрицательно воспринимался и ряд фактов биографии поэта: добровольное вступление в армию, проявленный на фронте героизм, стремление участвовать в действиях Антанты против австро-германо-болгарских войск в греческом порту Салоники и пр. Главное, что вызвало резкое неприятие, - строка из «Пятистопных ямбов»: «В немолчном зове боевой трубы/Я вдруг услышал песнь моей судьбы...» Гумилев расценил свое участие в войне как высшее предназначение, сражался, по словам очевидцев, с завидным спокойным мужеством, был награжден двумя крестами. Но ведь такое поведение свидетельствовало не только об идейной позиции, о нравственной, патриотической - тоже. Что касается желания поменять место военной деятельности, то здесь опять сказалась власть Музы Дальних Странствий.
В «Записках кавалериста» Гумилев раскрыл все тяготы войны, ужас смерти, муки тыла. Тем не менее не это знание легло в основу сборника. Видя народные беды, Гумилев пришел к широкому выводу: «Дух <...> так же реален, как наше тело, только бесконечно сильнее его».
Сходными внутренними прозрениями лирического героя привлекает «Колчан». Б. Эйхенбаум зорко увидел в нем «мистерию духа», хотя отнес ее лишь к военной эпохе. Философско-эстетическое звучание стихов было, безусловно, богаче.
Еще в 1912 г. Гумилев проникновенно сказал о Блоке: два сфинкса «заставляют его «петь и плакать» своими неразрешимыми загадками: Россия и его собственная душа». «Таинственная Русь» в «Колчане» тоже несет больные вопросы. Но поэт, считая себя «не героем трагическим» - «ироничнее и суше», постигает лишь свое отношение к ней:
О, Русь, волшебница суровая,
Повсюду ты свое возьмешь.
Бежать? Но разве любишь новое
Иль без тебя да проживешь?
Есть ли связь между духовными исканиями Гумилева, запечатленными в «Колчане», и его последующим поведением в жизни?
Видимо, есть, хотя сложная, трудноуловимая. Жажда новых, необычных впечатлений влечет Гумилева в Салоники, куда он выезжает в мае 1917 г. Мечтает и о более дальнем путешествии - в Африку. Объяснить все это только стремлением к экзотике, думается, нельзя. Ведь не случайно же Гумилев едет кружным путем - через Финляндию, Швецию, многие страны. Показательно и другое. После того как, не попав в Салоники, благоустроенно живет в Париже, затем в Лондоне, он возвращается в революционный холодный и голодный Петроград 1918 г. Родина суровой, переломной эпохи воспринималась, наверное, самым глубоким источником самопознания творческой личности. Недаром Гумилев сказал: «Все, все мы, несмотря на декадентство, символизм, акмеизм и прочее, прежде всего русские поэты». В России и был написан лучший сборник стихов «Огненный столп» (1921).
К лирике «Огненного столпа» Гумилев пришел не сразу. Значительной вехой после «Колчана» стали произведения его парижского и лондонского альбомов, опубликованные в «Костре» (1918). Уже здесь преобладают раздумья автора о собственном мироощущении. Он исходит из самых «малых» наблюдений - за деревьями, «оранжево-красным небом», «медом, пахнущим лугом», «больной» в ледоходе рекой. Редкая выразительность «пейзажа» восхищает. Только отнюдь не сама природа увлекает поэта. Мгновенно, на наших глазах, открывается тайное яркой зарисовки. Оно-то и проясняет подлинное назначение стихов. Можно ли, например, сомневаться в смелости человека, услышав его призыв к «скудной» земле: «И стань, как ты и есть, звездою,/ Огнем пронизанной насквозь!»? Всюду ищет он возможности «умчаться вдогонку свету». Будто прежний мечтательный, романтичный герой Гумилева вернулся на страницы новой книги. Нет, это впечатление минуты. Зрелое, грустное постижение сущего и своего места в нем - эпицентр «Костра». Теперь, пожалуй, можно объяснить, почему дальняя дорога звала поэта. Стихотворение «Прапамять» заключает в себе антиномию: И вот вся жизнь!
Круженье, пенье,
Моря, пустыни, города,
Мелькающее отраженье
Потерянного навсегда.
И вот опять восторг и горе,
Опять, как прежде, как всегда,
Седою гривой машет море,
Встают пустыни, города.
Вернуть «потерянное навсегда» человечеством, не пропустить что-то настоящее и неведомое во внутреннем бытии людей хочет герой. Поэтому называет себя «хмурым странником», который «снова должен ехать, должен видеть». Под этим знаком предстают встречи со Швейцарией, Норвежскими горами, Северным морем, садом в Каире. И складываются на вещной основе емкие, обобщающие образы печального странничества: блуждание - «как по руслам высохших рек», «слепые переходы пространств и времен». Даже в цикле любовной лирики (несчастливую любовь к Елене Д. Гумилев пережил в Париже) читаются те же мотивы. Возлюбленная ведет «сердце к высоте», «рассыпая звезды и цветы». Нигде, как здесь, не звучал такой сладостный восторг перед женщиной. Но счастье - лишь во сне, бреду. А реально - томление по недостижимому:
Вот стою перед дверью твоею,
Не дано мне иного пути.
Хоть я знаю, что не посмею
Никогда в эту дверь войти.
Неизмеримо глубже, многограннее и бесстрашнее воплощены уже знакомые духовные коллизии в произведениях «Огненного столпа». Каждое из них - жемчужина. Вполне можно сказать, что своим словом поэт создал это давно им искомое сокровище. Такое суждение не противоречит общей концепции сборника, где творчеству отводится роль священнодействия. Разрыва между желанным и свершенным для художника не существует.
Стихотворения рождены вечными проблемами - смысла жизни и счастья, противоречия души и тела, идеала и действительности. Обращение к ним сообщает поэзии величавую строгость, чеканность звучания, мудрость притчи, афористическую точность. В богатое, казалось бы, сочетание этих особенностей органично вплетена еще одна. Она исходит от теплого, взволнованного человеческого голоса. Чаще - самого автора в раскованном лирическом монологе. Иногда - объективированных, хотя весьма необычно, «героев». Эмоциональная окраска сложного философского поиска делает его, поиск, частью живого мира, вызывая взволнованное сопереживание.
Чтение «Огненного столпа» пробуждает чувство восхождения на многие высоты. Невозможно сказать, какие динамичные повороты авторской мысли больше тревожат в «Памяти», «Лесе», «Душе и теле». Уже вступительная строфа «Памяти» поражает нашу мысль горьким обобщением: Только змеи сбрасывают кожи.
Чтоб душа старела и росла,
Мы, увы, со змеями не схожи,
Мы меняем души, не тела.
Затем читатель потрясен исповедью поэта о своем прошлом. Но одновременно мучительной думой о несовершенстве людских судеб. Эти первые девять проникновенных четверостиший неожиданно переходят к преобразующему тему аккорду: Я - угрюмый и упрямый зодчий
Храма, восстающего во тьме,
Я возревновал о славе Отчей
Как на небесах, и на земле.
А от него - к мечте о расцвете земли, родной страны. И здесь, однако, еще нет завершения. Заключительные строки, частично повторяющие изначальные, несут новый грустный смысл - ощущение временной ограниченности человеческой жизни. Симфонизмом развития обладает стихотворение, как и многие другие в сборнике.
Редкой выразительности достигает Гумилев соединением несоединимых элементов. Лес в одноименном лирическом произведении неповторимо причудлив. В нем живут великаны, карлики, львы, появляется «женщина с кошачьей головой». Это «страна, о которой не загрезить и во сне». Однако кошачьеголовому существу дает причастие обычный кюре. Рядом с великанами упоминаются рыбаки и... пэры Франции. Что это - возвращение к фантасмагориям ранней гумилевской романтики? Нет, фантастическое снято автором: «Может быть, тот лес - душа моя...» Для воплощения сложных запутанных внутренних порывов и предприняты столь смелые ассоциации. В «Слоненке» с заглавным образом связано трудно связуемое - переживание любви. Она предстает в двух ипостасях: заточенной «в тесную клетку» и сильной, подобной тому слону, «что когда-то нес к трепетному Риму Ганнибала». «Заблудившийся трамвай» символизирует безумное, роковое движение в «никуда». И обставлено оно устрашающими деталями мертвого царства. Более того, с ним тесно сцеплены чувственно-изменчивые душевные состояния. Именно так донесена трагедия человеческого существования в целом и конкретной личности. Правом художника Гумилев пользовался с завидной свободой, и главное, достигая магнетической силы воздействия.
Поэт как бы постоянно раздвигал узкие границы стихотворения. Особую роль играли неожиданные концовки. Триптих «Душа и тело» будто продолжает знакомую тему «Колчана» - лишь с новой творческой энергией. А в финале - непредвиденное: все побуждения человека, в том числе и духовные, оказываются «слабым отблеском» высшего сознания. «Шестое чувство» сразу увлекает контрастом между скудными утехами людей и подлинной красотой, поэзией. Кажется, что эффект достигнут. Как вдруг в последней строфе мысль вырывается к иным рубежам:
Так, век за веком - скоро ли, Господь? -
Под скальпелем природы и искусства,
Кричит наш дух, изнемогает плоть,
Рождая орган для шестого чувства.
Построчные образы чудесным совмещением простейших слов-понятий тоже уводят нашу думу к дальним горизонтам. Невозможно иначе реагировать на такие находки, как «скальпель природы и искусства», «билет в Индию Духа», «сад ослепительных планет», «персидская больная бирюза»...
Тайн поэтического колдовства в «Огненном столпе» не счесть. Но они возникают на одном пути, трудном в своей главной цели - проникнуть в истоки человеческой природы, желанные перспективы жизни, в сущность бытия. Мироощущению Гумилева было далеко до оптимизма. Сказалось личное одиночество, чего он никогда не мог ни избежать, ни преодолеть. Не была найдена общественная позиция. Переломы революционного времени обостряли былые разочарования в частной судьбе и целом мире. Мучительные переживания автор «Огненного столпа» запечатлел в гениальном и простом образе «заблудившегося трамвая»:
Мчался он бурей темной, крылатой,
Он заблудился в бездне времени...
Остановите, вагоновожатый,
Остановите сейчас вагон.
«Огненный столп» тем не менее таил в своих глубинах преклонение перед светлыми, прекрасными чувствами, вольным полетом красоты, любви, поэзии. Мрачные силы всюду воспринимаются недопустимой преградой духовному подъему:
Там, где все сверканье, все движенье,
Пенье все,- мы там с тобой живем;
Здесь все только наше отраженье
Полонил гниющий водоем.
Поэт выразил недостижимую мечту, жажду не рожденного еще человеком счастья. Смело раздвинуты представления о пределах бытия.
Гумилев учил и, думается, научил своих читателей помнить и любить «Всю жестокую, милую жизнь,
Всю родную, странную землю...».
И жизнь, и землю он видел бескрайними, манящими своими далями. Видимо, потому и вернулся к своим африканским впечатлениям («Шатер», 1921). И, не попав в Китай, сделал переложение китайских поэтов («Фарфоровый павильон», 1918).
В «Костре» и «Огненном столпе» находили «касания к миру таинственного», «порывания в мир непознаваемого». Имелось, наверное, в виду влечение Гумилева к сокрытому в душевных тайниках «его невыразимому прозванью». Но так, скорее всего, была выражена противоположность ограниченным человеческим силам, символ небывалых идеалов. Им сродни образы божественных звезд, неба, планет. При некоторой «космичности» ассоциаций стихи сборников выражали устремления вполне земного свойства. И все-таки вряд ли можно говорить, как это допускается сейчас, даже о позднем творчестве Гумилева как о «поэзии реалистичной». Он сохранил и здесь романтическую исключительность, причудливость духовных метаморфоз. Но именно таким бесконечно дорого нам слово поэта.
Литература
Автономова Н.С. Возвращаясь к азам /Вопросы философии -1999-№3- С.25-32
Гумилев Н.С. Наследие символизма и акмеизм / Письма о русской поэзии. - М.: Современник, 1990- 301с.
Келдыш В. На рубеже эпох // Вопросы литературы – 2001- №2 – С.15- 28
Николай Гумилев. Исследования и материалы. Библиография. - СПб: "Наука", 1994- 55с..
Павловский А.И. Николай Гумилев / Вопросы литературы – 1996- №10- C.30-39
Фрилендер Г. Н. С. Гумилев - критик и теоретик поэзии.: М.:Просвещение, 1999-351с.
«Кричит наш дух, изнемогает плоть,
Рождая орган для шестого чувства».
Гумилёв Н.С., «Шестое чувство»
Русский поэт, путешественник, основатель литературного течения «акмеизма» (название происходит от греческого «akme» - цветущая сила).
«…1 августа 1914 года начинается война, освобождённый от воинской повинности по астигматизму, Гумилёв идет на фронт добровольцем.
Большинство молодых поэтов войну проигнорировало: Маяковский, Есенин, Мандельштам отсиживались в тылу. На войну пошли только Блок
и Гумилёв.
И когда провожали на фронт больного и немолодого Александра Блока, Гумилёв сказал: «Это всё равно, что жарить соловьёв».
Но он сам пошёл добровольцем, не офицером - солдатом.
Видимо, это тот соловей, который считал для себя принципиальным быть зажаренным.
Гумилёв служил в полковой разведке, ходил за линию фронта добывать вражеских языков. За 15 месяцев службы Гумилёв из рядового стал офицером и получил два Георгиевских креста - высшие солдатские награды России.
На фронте он продолжал писать и печататься. В 1916 году вышел сборник «Костёр»; в петроградских газетах публиковались его военные репортажи - «Заметки кавалериста»».
Лурье Л.Я., Без Москвы, СПб, «БХВ-Петербург», 2014 г., с.105.
«… он влёкся к страшной красоте, к пленительной опасности. Героизм казался ему вершиной духовности. Он играл со смертью так же, как играл с любовью. Пробовал топиться - не утонул. Вскрывал себе вены, чтобы истечь кровью, - и остался жив. Добровольцем пошёл на войну в 1914 г., не понимая:
Как могли мы прежде жить в покое
И не ждать ни радостей, ни бед,
Не мечтать об огнезарном бое,
О рокочущей трубе побед...
Видел, смерть лицом к лицу и уцелел. Шёл навстречу опасности:
И Святой Георгий тронул дважды
Пулею нетронутую грудь...
Одна лишь смерть казалась ему в ту пору достойной человека - смерть «под пулями во рвах спокойных».Но смерть прошла мимо него, как миновала его и в Африке, в дебрях тропических лесов, в раскалённых просторах пустынь. Увлекался наркотиками. Однажды попросил у меня трубку для курения опиума, потом раздобыл другую, «более удобную». Отравлялся дымом блаженного зелья. Многие смеялись над этими его «экспериментами». Он же смеялся над современниками, благополучными обывателями. Отраду видел именно в том, что их только смешило».
Голлербах Э.Ф., Из воспоминаний о Н.С. Гумилёве, в Сб.: Николай Гумилёв в воспоминаниях современников, М., «Вся Москва», 1990 г., с. 17.
Н.С. Гумилёв о поэзии: «Поэтом является тот, кто учтёт все законы, управляющие комплексом взятых им слов. Учитывающий только часть этих законов будет художником-прозаиком, а не учитывающий ничего, кроме идейного содержания слов и их сочетаний, будет литератором, творцом деловой прозы».
Н.С. Гумилёв об акмеизме: «Всякое направление испытывает влюблённость к тем или иным творцам и эпохам. Дорогие могилы связывают людей больше всего. В кругах, близких к акмеизму, чаще всего произносятся имена Шекспира , Рабле , Виллона и Теофиля Готье. Подбор этих имён не произволен. Каждое из них - краеугольный камень для здания акмеизма, высокое напряжение той или иной его стихии. Шекспир показал нам внутренний мир человека, Рабле - тело и его радости, мудрую физиологичность, Виллон поведал нам о жизни, нимало не сомневающейся в самой себе, хотя знающей всё - и Бога, и порок, и смерть, и бессмертие, Теофиль Готье для этой жизни нашёл в искусстве достойные одежды безупречных форм. Соединить в себе эти четыре момента - вот та мечта, которая объединяет сейчас между собою людей, так смело назвавших себя акмеистами».
Приветствую вас, дорогие друзья. В эфире рубрика "Душа поэта" и ее ведущая Виктория Фролова с программой, посвященной творчеству личностей, которые вошли в историю мировой литературы как выдающиеся поэты эпохи Серебряного века русской поэзии.
У меня в руках – книга, вышедшая в 1989 году, воспоминания поэта о поэтах – мемуары Ирины Одоевцевой «На берегах Невы». Именно ее живой рассказ о литературной жизни Петербурга трех послереволюционных лет, с 1918-го по 21-й годы, будет нашим проводником в то противоречивое время. Следует сказать, что именно двадцать лет назад, в конце восьмидесятых, в русской литературе произошло возвращение и своеобразная реабилитация таких имен, как Федор Сологуб, Георгий Иванов, Андрей Белый, Николай Гумилев и многих других поэтов. Тогда начали активно издавать их произведения, изучать их творчество, открывать эпоху, почти полностью вытравленную из сознания нескольких поколений читателей.
Сады моей души всегда узорны,
В них ветры так свежи и тиховейны,
В них золотой песок и мрамор черный,
Глубокие, прозрачные бассейны.
Растенья в них, как сны, необычайны,
Как воды утром, розовеют птицы,
И – кто поймет намек старинной тайны? –
В них девушка в венке великой жрицы.
И щеки – розоватый жемчуг юга,
Сокровище немыслимых фантазий,
И руки, что ласкали лишь друг друга,
Переплетясь в молитвенном экстазе.
У ног ее – две черные пантеры
С отливом металлическим на шкуре.
Вдали от роз таинственной пещеры
Ее фламинго плавает в лазури.
И не смотрю на мир бегущих линий,
Мои мечты лишь вечному покорны.
Пускай сирокко бесится в пустыне,
Сады моей души всегда узорны.
Мне кажется, это стихотворение как нельзя более точно характеризует главного героя мемуаров Ирины Одоевцевой – поэта Николая Гумилева, расстрелянного большевиками в конце августа 1921 года как контрреволюционера, и по этой причине вычеркнутого новой властью из официальных литературных и литературоведческих изданий на многие десятилетия. Стихотворение «Сады души», которое вы только что слышали, вошло в авторский сборник произведений поэта 1907-10-х годов «Романтические цветы». А главным героем мемуаров Николай Гумилев стал потому, что Ирина Одоевцева, эмигрировавшая из России в 1922 году, была ученицей Гумилева. Ученицей в прямом смысле слова – он обучал ее поэтическому мастерству именно в те годы, о которых идет речь в ее мемуарах. Спустя много лет (а воспоминания написаны в 1967 году), Одоевцева все так же удивляется этому факту своей биографии, как и в те юные годы: «Как началась моя дружба с Гумилевым? Но можно ли наши отношения назвать дружбой? Ведь дружба предполагает равенство. А равенства между нами не было и быть не могло. Я никогда не забывала, что он мой учитель, и он сам никогда не забывал об этом. Говоря обо мне, он всегда называл меня «Одоевцева – моя ученица».
И это явилось счастьем не только для нее, но впоследствии и для многих читателей ее мемуаров, поскольку память у Ирины Одоевцевой была великолепной, а помноженная на эмоциональное восприятие событий и ироничное отношение к себе и к собратьям по лире, она подарила нам захватывающий роман о непостижимой жизни поэтов начала прошлого века, каждый из которых считал себя гением. Одной из героинь этого романа стала, конечно же, и Анна Ахматова – первая жена Гумилева, и, невзирая на их развод и другие браки, в сознании большинства – жена единственная. Вот замечания Одоевцевой на панихиде по Гумилеву: «Ахматова стоит у стены. Одна. Молча. Но мне кажется, что вдова Гумилева не эта хорошенькая, всхлипывающая, закутанная во вдовий креп девочка, а она – Ахматова»…
Я знаю женщину: молчанье,
Усталость горькая от слов
Живет в таинственном мерцанье
Ее расширенных зрачков.
Ее душа открыта жадно
Лишь медной музыке стиха,
Пред жизнью дальней и отрадной
Высокомерна и глуха.
Неслышный и неторопливый,
Так странно плавен шаг ее,
Нельзя назвать ее красивой,
Но в ней все счастие мое.
Когда я жажду своеволий
И смел и горд – я к ней иду
Учиться мудрой сладкой боли
В ее истоме и бреду.
Она светла в часы томлений
И держит молнии в руке,
И четки сны ее, как тени
На райском огненном песке.
Это – стихотворение Николая Гумилева «Она», посвященное Ахматовой, – из авторского сборника «Чужое небо» 1912-го года. И, чтобы не прерывать возвышенного настроя души, созданного поэтом в этом посвящении любимой женщине, прочтем еще одно - из этого же сборника, так им самим и обозначенное – Посвящается Анне Ахматовой
Я верил, я думал, и свет мне блеснул наконец;
Создав, навсегда уступил меня року Создатель.
Я продан! Я больше не Божий! Ушел продавец
И с явной насмешкой глядит на меня покупатель.
Летящей горою за мною несется Вчера,
А Завтра меня впереди ожидает, как бездна,
Иду… но когда-нибудь в Бездну сорвется Гора,
Я знаю, я знаю, дорога моя бесполезна.
И если я волей себе покоряю людей,
И если слетает ко мне по ночам вдохновенье,
И если я ведаю тайны – поэт, чародей,
Властитель вселенной, – тем будет страшнее паденье.
И вот мне приснилось, что сердце мое не болит,
Оно – колокольчик фарфоровый в желтом Китае
На пагоде пестрой… висит и приветно звенит,
В эмалевом небе дразня журавлиные стаи.
А тихая девушка в платье из красных шелков,
Где золотом вышиты осы, цветы и драконы,
С поджатыми ножками смотрит без мыслей и слов,
Внимательно слушая легкие, легкие звоны…
Честно говоря, мне кажется странным, что, будучи автором подобных поэтических фантазий, - а их у него чрезвычайно много, - Николай Гумилев стал основоположником такого направления в русской поэзии, как акмеизм, характеризующегося точностью реалий и верностью малейшим деталям жизни. Более того, он считал, что поэзия сродни математике, и, как писала Одоевцева, она «не раз видела, как Гумилев, наморщив лоб и скосив глаза, то писал, то зачеркивал какое-нибудь слово, и, вслух подбирая рифмы, сочинял стихи. Будто решал арифметическую задачу. Ничего таинственного, похожего на чудо, в этом не было».
Точность в деталях и четкость образов, - что, собственно, и отличает акмеизм от других многочисленных направлений русской поэзии начала двадцатого века, - особенно характерны для творчества Анны Ахматовой. Вот, к примеру, одно из ее стихотворений, и, раз уж мы прочли стихи Гумилева, посвященные ей, давайте вспомним посвящение этого периода Ахматовой - ему:
В ремешках пенал и книги были,
Возвращалась я домой из школы.
Эти липы, верно, не забыли
Нашей встречи, мальчик мой веселый.
Только ставши лебедем надменным,
Изменился серый лебеденок.
А на жизнь мою лучом нетленным
Грусть легла, и голос мой незвонок.
1912. Царское Село.
Действительно, в этих скупых строках – и история знакомства двух будущих поэтов, произошедшая в Царском Селе в годы их юности, и точная характеристика личности Гумилева, из искреннего, но невзрачного юноши превратившегося в высокомерного поэта. И даже описание ее внутреннего состояния в период их совместной жизни: «грусть легла» и «голос незвонок».
Гумилев и Ахматова обвенчались в апреле 1910-го года, в 1912 у них родился сын Левушка – как известно, впоследствии ставший опальным историком Львом Гумилевым. В 1918 году они развелись: трудно было двум амбициозным творческим личностям ужиться в рамках брачного союза. Как будто сбылось поэтическое пророчество Ахматовой 1909 года –
И когда друг друга проклинали
В страсти, раскаленной добела,
Оба мы еще не понимали,
Как земля для двух людей мала…
А ведь каждый поэт непременно хотел покорить мир. Но на этом пути неизменно ждут разочарования, смятение души и осознание невозможности достижения горделивых притязаний:
Еще один ненужный день,
Великолепный и ненужный!
Приди, ласкающая тень,
И душу смутную одень
Своею ризою жемчужной.
И ты пришла… ты гонишь прочь
Зловещих птиц – мои печали.
О, повелительница ночь,
Никто не в силах превозмочь
Победный шаг твоих сандалий!
От звезд слетает тишина,
Блестит луна – твое запястье,
И мне во сне опять дана
Обетованная страна –
Давно оплаканное счастье.
Это стихотворение «Вечер» – из последнего сборника Гумилева «Огненный столп». Написано оно, как и другие, вошедшие в сборник, в последние годы его жизни. К тому времени Гумилев был признанным мэтром, основавшим, я бы даже сказала, выстроившим новое направление в русской поэзии.
Но это тему мы продолжим в следующем выпуске рубрики «Душа поэта». Хорошего вам настроения и приятных впечатлений. Всего доброго…
Здравствуйте, уважаемые любители поэзии. Сегодня мы продолжим начатый в предыдущей программе рубрики «Душа поэта» рассказ о таком направлении русской поэзии начала двадцатого века, как акмеизм, и его основателе – Николае Гумилеве.
Надо сказать, что в тот период в литературе появилось не только невероятное количество всяких течений и учений, но и отношение к литературному творчеству и писателям стало каким-то нарочито восторженным, театрально преувеличивавшем значимость тех или иных личностей. Мне кажется, если попробовать подняться над всем этим теоретическим разнообразием, нетрудно будет прийти к выводу, что дробление, я бы даже сказала, расчленение поэтического творчества на составляющие свидетельствует о дробности сознания, без сомнения, творческих личностей.
Многие из которых, конечно, стремились эту дробность в себе изжить, преодолеть. Возможно, именно в такие минуты просветления их посещало вдохновение, и, – как рассказал ранее Тютчев, – с небес спускалась поэзия и открывала тайны бытия. Вероятно, именно в такие минуты Гумилева однажды посетило видение из прошлой жизни, описанное им в сонете, вошедшем в сборник «Чужое небо»:
Я, верно, болен: на сердце туман,
Мне скучно все, и люди, и рассказы,
Мне снятся королевские алмазы
И весь в крови широкий ятаган.
Мне чудится (и это не обман):
Мой предок был татарин косоглазый,
Свирепый гунн… я веяньем заразы,
Через века дошедшей, обуян.
Молчу, томлюсь, и отступают стены –
Вот океан весь в клочьях белой пены,
Закатным солнцем залитый гранит.
И город с голубыми куполами,
С цветущими жасминными садами,
Мы дрались там… Ах, да! Я был убит.
И хотя этот мотив явно перекликается с блоковскими «Скифами», известный литературовед Лев Аннинский в одной из своих статей отметил, что «огненную запаленность мироздания Гумилёв противопоставляет поэтике Александра Блока и символистов. На поверхности литературной борьбы это неприятие осознается сторонниками Гумилёва как бунт четкости против расплывчатости. Символизм в их понимании - это когда некто некогда говорит нечто о ничём… А надо давать ясные имена вещам, как это делал первый человек Адам. Термин «адамизм», выдвинутый Гумилёвым, не принят - принят придуманный про запас сподвижником Гумилёва Сергеем Городецким термин «акмеизм» - от греческого слова «акме» - высшая, цветущая форма чего-либо. Вдохновителем и вождем направления остается тем не менее Гумилёв.
Он создает «Цех поэтов» и становится его «синдиком», то есть мастером. В 1913 году в статье «Наследие символизма и акмеизм» он объявляет, что символизм закончил свой «круг развития». Пришедший ему на смену акмеизм призван очистить поэзию от «мистики» и «туманности», он должен вернуть слову точное предметное значение, а стиху - «равновесие всех элементов».
Однако, настоящими акмеистами считались всего несколько человек, и Анна Ахматова была самой яркой из всех поэтов этого направления. И, кто знает, возможно, именно ее авторский стиль и вдохновил Гумилева на создание для него так называемой теоретической базы?
* * *
В последний раз мы встретились тогда
На набережной, где всегда встречались.
Была в Неве высокая вода,
И наводненья в городе боялись.
Он говорил о лете и о том,
Что быть поэтом женщине – нелепость.
Как я запомнила высокий царский дом
И Петропавловскую крепость! –
Затем что воздух был совсем не наш,
А как подарок божий – так чудесен.
И в этот час была мне отдана
Последняя из всех безумных песен.
Это стихотворение написано Ахматовой как раз в период оформления акмеизма в самостоятельное направление – в 1914 году. Но давайте вернемся к мемуарам ученицы Гумилева, Ирины Одоевцевой, «На берегах Невы». Напомню, она описывает события в поэтических кругах послереволюционного Петербурга, когда старая жизнь кардинально и стремительно изменилась, обещая, несмотря на полную разруху, счастливую жизнь, новую. В том числе, и в искусстве: осенью 1918 года открылся Институт живого слова, куда, на литературное отделение, со страстным желанием выучиться на поэта, записалась юная Одоевцева. Здесь она и стала сначала слушательницей, а потом преданной и исключительно старательной ученицей Николая Гумилева. Не без удовольствия процитирую ее рассказ об одном из занятий, проводимых поэтом:
«Гумилеву очень нравилось, что я старалась никому не подражать. Никому. Даже Ахматовой. Особенно Ахматовой*… И в «Живом слове», и в студии слушательницы в своих стихотворных упражнениях все поголовно подражали Ахматовой, властительнице их дум и чувств. Они вдруг поняли, что тоже могут говорить «о своем, о женском». И они заговорили. «Подахматовками» Гумилев называл всех неудачных подражательниц Ахматовой. - Это особый сорт грибов-поганок, растущих под «Четками», - объяснял он, - подахматовки. Вроде мухоморов.
Но, несмотря на издевательства, «подахматовки» не переводились. Одна из слушательниц курсов самоуверенно продекламировала однажды: «Я туфлю с левой ноги \ на правую ногу надела». - Ну и как? - прервал ее Гумилев. - Так и доковыляли домой? Или переобулись в ближайшей подворотне?
Но, конечно, многие подражания были лишены комизма и не служили причиной веселья Гумилева и его учеников. Так строки «Одною болью стало больше в мире, \ и в небе новая зажглась звезда… - даже удостоились снисходительной похвалы мэтра. - Если бы не было: «Одной улыбкой меньше стало. Одною песней больше будет», - прибавил он», - конец цитаты.
Однако, в мемуарах Одоевцевой, помимо Гумилева и Ахматовой, конечно, много других действующих лиц и событий той поэтической эпохи. К примеру, с особой теплотой и восхищением она вспоминает об Осипе Мандельштаме. Одним из ярких впечатлений на всю жизнь у нее осталось первое чтение Мандельштамом в Петербурге его новых стихов, объединенных в сборник «Тристии». В кругу друзей-поэтов – Николая Гумилева, Георгия Иванова, Николая Оцупа, Михаила Лозинского и, конечно же, ученицы Гумилева Одоевцевой – по свидетельству последней, произошло настоящее явление поэзии ее искушенным адептам: «Гумилев каменно застыл, держа своими длинными пальцами детскую саблю, – записала впоследствии Ирина Одоевцева. – Он забыл, что ею надо поправлять мокрые поленья и ворошить угли, чтобы поддерживать огонь. И огонь в печке почти погас. Но этого ни он и никто другой не замечает.
Ну, а в комнате белой, как прялка, стоит тишина.
Пахнет уксусом, краской и свежим вином из подвала.
Помнишь, в греческом доме любимая всеми жена,
Не Елена, другая, как долго она вышивала…
Мандельштам резко и широко взмахивает руками, будто дирижирует невидимым оркестром. Голос его крепнет и ширится. Он уже не говорит, а поет в сомнамбулическом самоупоении:
Золотое руно, где же ты, золотое руно?
Всю дорогу шумели морские тяжелые волны,
И, покинув корабль, натрудивший в морях полотно,
Одиссей возвратился, пространством и временем полный.
Последняя строфа падает камнем. Все молча смотрят на Мандельштама, и я уверена, совершенно уверена, что в этой потрясенной тишине они, как и я, видят не Мандельштама, а светлую «талассу», адриатические волны и корабль с красным парусом, «пространством и временем полный», на котором возвратился Одиссей», - конец рассказа.
Трудно поверить, что Мандельштам, конечно же, не был свидетелем тех античных событий, хотя точность образов у него вполне акмеистическая**. Зато сам Гумилев, как известно, вполне последовательно теорию старался максимально превратить в практику, и если его душа требовала героических поступков – отправлялся в экзотическую Африку охотиться на львов и на живые впечатления. Шел добровольцем в армию и как офицер храбро вел солдат в бой. Не скрывал своего происхождения и верности монархии в большевистском Петербурге.
И, к примеру, его «Жираф» – это вовсе не романтические мечты о неведомых странах, а попытка рассказать не только о других мирах, но и о других возможностях, которые могут открыться душе, если душа – откроется миру:
Сегодня, я вижу, особенно грустен твой взгляд
И руки особенно тонки, колени обняв.
Послушай: далеко, далеко на озере Чад
Изысканный бродит жираф.
Ему грациозная стройность и нега дана,
И шкуру его украшает волшебный узор,
С которым равняться осмелится только луна,
Дробясь и качаясь на влаге широких озер.
Вдали он подобен цветным парусам корабля,
И бег его плавен, как радостный птичий полет.
Я знаю, что много чудесного видит земля,
Когда на закате он прячется в мраморный грот.
Я знаю веселые сказки таинственных стран
Про черную деву, про страсть молодого вождя,
Но ты слишком долго вдыхала болотный туман,
Ты верить не хочешь во что-нибудь, кроме дождя.
И как я тебе расскажу про тропический сад,
Про стройные пальмы, про запах немыслимых трав…
Ты плачешь? Послушай… далеко, на озере Чад
Изысканный бродит жираф.
Этим строками нельзя не поверить, особенно зная, что их автор сам бывал «далеко, далеко на озере Чад», и своими глазами видел диковинное создание природы. По свидетельству Ирины Одоевцевой, Гумилев считал, что «жизнь поэта не менее важна, чем его творчество. Поэтому необходима напряженная, разнообразная жизнь, полная борьбы, радостей и огорчений, взлетов и падений. Ну и, конечно, любви».
К сожалению, невозможно процитировать всю эту замечательную книгу воспоминаний «На берегах Невы» - о, пожалуй, самом ярком и трагическом периоде русской поэзии и о неординарных представителях Серебряного века. Мы лишь слегка пролистали ее страницы.
Но стоит заметить, что насыщенная жизнь и ее осмысление важны для развития любой личности. А поэты имеют счастливый талант – делиться своим творческим опытом и раскрывать самые разнообразные тайны бытия и нашей собственной души. И вы всегда имеете возможность самостоятельно обращаться к любимым стихотворениям...
*Еще об Ахматовой - здесь.