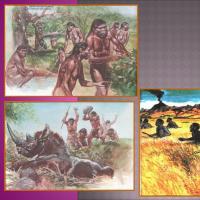Цитаты цветаевой о любви к мужчине. Марина Цветаева: самые пронзительные цитаты о жизни и любви
Марина Цветаева — лучшие цитаты поэтессы!Одна из крупнейших русских поэтесс ХХ века, прозаик и переводчица Марина Ивановна Цветаева (1892 - 1941) начала писать стихи - не только на русском, но и на французском и немецком языках - ещё в шестилетнем возрасте. А её первый изданный сборник стихов в 18 лет сразу же привлёк внимание известных поэтов.
Судьба у Марины Цветаевой сложилась невероятно трагично. Война и нищета дают о себе знать. Один её ребёнок в 3-летнем возрасте умирает от голода в приюте, мужа по подозрению в политическом шпионаже расстреливают, вторую дочь репрессируют на 15 лет.
Цветаева с сыном отправляется в эвакуацию в Чистополь, куда ссылали большинство литераторов – там ей обещают прописку и работу. Цветаева пишет заявление: «Прошу принять меня на работу в качестве посудомойки в открывающуюся столовую Литфонда». Но ей не дали и такой работы: совет счел, что она может оказаться немецким шпионом.
Мы собрали 25 цитат Марины Цветаевой о любви и жизни, которые раскрывают всю глубину и мудрость её трагической судьбы:
«Я буду любить тебя все лето», – это звучит куда убедительней, чем «всю жизнь» и – главное – куда дольше!
Если бы Вы сейчас вошли и сказали: «Я уезжаю надолго, навсегда», – или: «Мне кажется, я Вас больше не люблю», - я бы, кажется, не почувствовала ничего нового: каждый раз, когда Вы уезжаете, каждый час, когда Вас нет – Вас нет навсегда и Вы меня не любите.
- Влюбляешься ведь только в чужое, родное – любишь.
- Встречаться нужно для любви, для остального есть книги.
- Творчество – общее дело, творимое уединёнными.
- В мире ограниченное количество душ и неограниченное количество тел .
- Любить – значит видеть человека таким, каким его задумал Бог и не осуществили родители.
Если я человека люблю, я хочу, чтоб ему от меня стало лучше – хотя бы пришитая пуговица. От пришитой пуговицы – до всей моей души.
- Успех – это успеть.
- Что можешь знать ты обо мне, раз ты со мной не спал и не пил?
- Нет на земле второго Вас .
- Я не хочу иметь точку зрения. Я хочу иметь зрение.
- Слушай и помни: всякий, кто смеётся над бедой другого, дурак или негодяй; чаще всего и то, и другое.
- Единственное, чего люди не прощают – это то, что ты без них, в конце концов, обошёлся.
Скульптор зависит от глины. Художник от красок. Музыкант от струн. У художника, музыканта может остановиться рука. У поэта – только сердце.
- «Стерпится – слюбится». Люблю эту фразу, только наоборот .
Любимые вещи: музыка, природа, стихи, одиночество. Любила простые и пустые места, которые никому не нравятся. Люблю физику, её загадочные законы притяжения и отталкивания, похожие на любовь и ненависть.
В одном я – настоящая женщина: я всех и каждого сужу по себе, каждому влагаю в уста – свои речи, в грудь – свои чувства. Поэтому все у меня в первую минуту: добры, великодушны, щедры, бессонны и безумны.
- Насколько я лучше вижу человека, когда не с ним!
Никто не хочет – никто не может понять одного: что я совсем одна. Знакомых и друзей – вся Москва, но ни одного кто за меня – нет, без меня! – умрет.
Мужчины не привыкли к боли, – как животные. Когда им больно, у них сразу такие глаза, что всё что угодно сделаешь, только бы перестали.
Мечтать ли вместе, спать ли вместе, но плакать всегда в одиночку .
О, Боже мой, а говорят, что нет души! А что у меня сейчас болит? – Не зуб, не голова, не рука, не грудь, – нет, грудь, в груди, там, где дышишь, – дышу глубоко: не болит, но всё время болит, всё время ноет, нестерпимо!
Я хочу такой скромной, убийственно-простой вещи: чтобы, когда я вхожу, человек радовался .
Человечески любить мы можем иногда десятерых, любовно - много - двух. Нечеловечески - всегда одного.
«Будьте, как дети»- это значит: любите, жалейте, целуйте – всех!
Я не женщина, не амазонка, не ребенок. Я- существо!
Поэтому- как ни борись! -мне всё позволено. И глубокое - основное- чувство невинности.
Изменяя себя (ради людей – всегда ради людей!) мне никогда не удается – изменить себе – т.е. окончательно изменить себя. Там, где я должна думать (из-за других) о поступке, он всегда нецелен, - начат и не кончен – необъясним, не мой. Я точно запомнила А и не помню Б, - и сразу вместо Б – мои иероглифы, необъяснимые никому, ясные только мне.

Борис Шаляпин Портрет М.И. Цветаевой 1933 г.
***
Аля: «В твоей душе тишина, грустность, строгость, смелость. Ты умеешь лазить по таким вершинам, по которым не может пройти ни один человек. Ты сожженная какая-то. Я никак не могу выдумать для тебя подходящего ласкательного слова»
***
Аля: «Мама, знаешь что я тебе скажу? Ты душа стихов, ты сама длинный стих, но никто не может прочесть, что на тебе написано, ни другие, ни ты сама,- никто»
***
Ах, я понимаю, что больше всего на свете люблю себя, свою душу, которую бросаю всем встречным в руки, и шкуру, -которую бросаю во все вагоны 3-го класса – и им ничего не делается!
***
Что такое я?
Серебряные кольца по всей руке + волосы на лбу + быстрая походка +++ ..
Я без колец, я с открытым лбом, тащащаяся медленным шагом – не я, душа не с тем телом, все равно, как горбун или глухонемой. Ибо-клянусь Богом!- ничто во мне не было причудой, все- каждое кольцо! – необходимостью, не для людей, для собственной души. Так: для меня, ненавидящей обращать на себя внимание, всегда прячущейся в самый темный угол залы, мои 10 колец на руках и плащ в 3 пелерины (тогда их никто не носил) часто были трагедией. Но за каждые из этих 10 колец я могла ответить, за свои же низкие каблуки я ответить не могу.

***
Вчера читала во «Дворце искусств» (Поварская,52, дом Сологуба, - моя прежняя- первая! -служба) «Фортуну». Меня встретили хорошо, из всех читавших-одну-аплодисментами. Читала хорошо. По окончании стою одна, с случайными знакомыми. Если бы не пришли- одна. Здесь я такая же чужая, как среди квартирантов своего дома, где я живу 5 лет, как на службе, как когда-то во всех 5-ти-заграничных и русских пансионах и гимназиях, где я училась, - как всегда- везде.
***
Седые волосы.
День спустя, у Никодима, возглас Шарля: «Марина! Откуда у вас седые волосы?»
-Между прочим, волосы у меня светлые, светло-русо-золотистые. Волнистые, стриженые, как в средние века у мальчиков, иногда вьющиеся (сбоку и сзади –всегда). Очень тонкие, как шелк, очень живые- вся я. И спереди – заметила этой весною –один- два- три- если раздвигать- и больше- волос десять-совершенно седых,белых,тоже закручивающихся на конце.- Так странно. Я слишком молода, чтобы из самолюбия утверждать, что это мне нравится, я им действительно рада, как доказательству, что какие-то силы во мне таинственно работают – не старость, конечно! –а может быть мои – без устали – работающие голова и сердце, вся эта моя страстная, скрытая под беззаботной оболочкой, творческая жизнь. – Как доказательство того, что и на такое железное здоровье, как мое, нашлись железные законы духа.

***
О хамстве своей природы:
Никогда не радовалась цветам в подарок, и если покупала когда-нибудь цветы, то или во имя чье-нибудь (фиалки-Парма-Герцог Рейхштадский и т.д.) или тут же, не донеся до дому, заносила кому-нибудь.
Цветы в горшке надо поливать, снимать с них червей, больше пакости, чем радости, цветы в стакане – так как я непременно позабуду переменить воду – издают отвратительный запах и, выброшенные в печку (всё бросаю в печь!), не горят. Если хотите мне сделать радость, пишите мне письма, дарите мне книжки про всё, кольца –какие угодно –только серебряные и большие! - ситчику на платье (лучше розового) – только, господа, не цветы!
***
Упражняюсь в самом трудном для себя: жизни в чужих людях. Кусок в горло не идет, - всё равно, у друзей ли это, или, как сейчас, в грязной деревне, у грубых мужиков. Не естся, не читается, не пишется. Один вопль: «Домой!»
***
Когда меня любят –я нагибаю голову, не любят-поднимаю! Мне хорошо, когда меня не любят! (больше-я)

***
Ходя в ожидании поезда по перрону, я думала о том, что у всех есть друзья, родные, знакомые. Все подходят, здороваются, о чем-то расспрашивают, - какие-то имена – планы дня – а я одна – и всем все равно, если я не сяду.
***
Когда я с людьми, которые не знают, что я- я, я всем своим существом извиняюсь за то, что существую- как – нибудь искупить! Вот объяснение моего вечного смеха с людьми. Я не могу- не терплю- запрещаю, чтобы обо мне дурно думали!
***
Прекрасно понимаю влечение ко мне Али и Сережи. Существа лунные и водные, они влекутся к солнечному и огненному во мне. Луна смотрит в окно (любит одного), Солнце – в мир (любит всех).
Луна ищет - вглубь, Солнце идет по поверхности, танцует, плещет, не тонет.
***
Вся я –курсивом.

Марина Цветаева. Рисунок. 1931 г.
***
Безделие –самая зияющая пустота, самый опустошающий крест. Поэтому я – может быть – не люблю деревни и счастливой любви.
***
Найду ли я когда- нибудь человека, который настолько полюбит меня, что даст мне цианистого калия, и настолько узнает меня, что поймет, будет убежден, что я никогда не пущу его в ход раньше сроку. – и потому, дав, будет спать спокойно.
***
Не нужен мне тот, кому я не необходима. Лишний мне тот, кому мне нечего дать.
***
Чего во мне нет, что меня так мало любят?
Слишком 1-ый сорт? – вопреки всему словесному 18 в. не возьмешь за подбородок!
Стало быть: и в 3-ем сорте- 1-ый сорт! (нужно: в 3-ем-4-ый, тогда весело!)
Ну, а для «благородных»?
Лицемерия- вот чего во мне не хватает. Я ведь сразу: «я очень мало понимаю в живописи», « я совсем не понимаю скульптуры», «я очень дурной человек, вся моя доброта-авантюризм», - и на слово верят, ловят на слове, не учитывая, что я это ведь так – с собой говорю. Но надо отметить одно: никогда ни у кого со мной – ни оттенка фамильярности. Может быть: мои – наперед – удивленные, серьезные, непонимающие глаза

М. И. Цветаева. Портрет работы М. Нахмана. 1915 г.
***
Я- вся- не нравлюсь, люди только валят на мои «земные приметы». Отталкивает костяк, а не кожаный пояс, ребро, а не ремень вокруг, лоб, а не волосы над, рука, а не перстень на. Отталкивает мое наглое умение радоваться поясу, челке, кольцу вне отражения в их взглядах, мое полное несчитание с этим оттолкновением, отталкиваю Я.
***
Неудачные встречи: слабые люди. Я всегда хотела любить, всегда исступленно мечтала слушаться, ввериться, быть вне своей воли (своеволия), быть в надежных и нежных руках. Слабо держали –оттого уходила. Не любили- любовно- оттого уходила.
***
У меня было имя. У меня была внешность. Привлекающая внимание (мне все это говорили: «голова римлянина», Борджиа, Пражский мальчик-рыцарь и т.п.) и,наконец, хотя я с этого должна была начать: у меня был дар – и все это, вместе взятое – а я наверняка еще что-нибудь забыла!- не послужило мне, повредило, не принесло мне и половины? и тысячной доли той любви, которая достигается одной наивной женской улыбкой.

Марина Цветаева В.Сысков 1989г
***
Я не знала человека более робкого, чем я, отродясь. Но моя смелость оказалась еще больше моей робости. Смелость: негодование, восторг, иногда просто разум, всегда-сердце. Так я, не умеющая самых «простых» и «легких» вещей- самые сложные и тяжелые –могла.
***
Перед лицом стылого окна. Я, кажется, больше всего в жизни любила – уют. Он безвозвратно ушел из моей жизни.
***
Я, любя природу, кажется,больше всего на свете, без ее описаний обошлась: я ее только упоминала: видение дерева. Вся она была фоном – к моей душе. Еще: я ее иносказывала: березовое серебро. Ручьи живые!
******
Боже мой! Целая минута блаженства! Да разве этого мало хоть бы и на всю жизнь человеческую?

Л. Левченко (Еременко) М.И. Цветаева. (Карандаш)
***
Одарить можно только очень богатого.
***
Решено, Марина! Венчаюсь - в синем, в гробу лежу - в шоколадном!
***
Сколько предрассудков уже отпало! - Евреи, высокие каблуки, чищенные ногти, - чистые руки! - мытье головы через день.... остаются только: буква ять и корсет
***
Мужчина! Какое беспокойство в доме! Пожалуй, хуже грудного ребенка..

Нестерова И.А. Марина Цветаева о себе и своей судьбе // Энциклопедия Нестеровых
Рассмотрим творчество Цветаевой с позиции автобиографичности.
Одна – из всех – за всех – противу всех!
Более полувека тому назад совсем юная и никому еще не известная Марина Цветаева высказала непоколебимую уверенность:
Разбросанным в пыли по магазинам
(Где их никто не брал и не берет!),
Моим стихам, как драгоценным винам,
Настанет свой черед.
Прошли годы трудной жизни и напряженной творческой работы и гордая уверенность обернулась полным неверием:
Мне в современности и в будущем – места нет.
Всей мне – ни одной пяди земной поверхности, этой малости – мне – во всем огромном мире – ни пяди (сейчас стою на своей последней, незахваченной, только потому, что на ней стою: твердо стою...
Это конечно добросовестное заблуждение, в известной мере объясняемое одиночеством и растерянностью поэта, знавшего силу своего таланта, но не сумевшего выбрать правильный путь. Судьба созданного художником не сводится к к его личной судьбе, художник уходит, искусство остается. Сама Цветаева сказала об этом намного точнее: "…во мне нового ничего, кроме моей поэтической отзывчивости на новое звучание воздуха". Он не затерялся в потоке стихотворных новинок, его заметили и одобрили и В. Брюсов, и Н. Гумилев, и М. Волошин. Благодаря этой отзывчивости молодой поэт фатально пытающийся противопоставить себя новому веку в итоге оказался неотъемлемой частью этого века. Творческое наследие Марины Цветаевой велико и неоценимо для потомков.
Характер у неё был трудный, неустойчивый и неуступчивый. Илья Эренбург, хорошо знавший её в молодости говорил: "Марина Цветаева совмещала в себе старомодную учтивость и бунтарство, пиетет перед гармонией и любовью к душевному косноязычию, предельную гордость и предельную простоту. Ее жизнь была клубком прозрений и ошибок".
Однако признание таланта Цветаевой неоспоримо. Тринадцать изданных книг при жизни и еще пять посмертно, вобрали в себя лишь часть написанного поэтессой. Другая часть стихов рассыпана по ныне практически недоступным изданиям. Среди созданного Цветаевой кроме лирики большой интерес представляют и семнадцать поэм, восемь стихотворных драм, автобиографическая, мемуарная, историко-публицистическая и философско-политическая проза.
В творческом наследии Марины Цветаевой много того, что пережило свое время. В тоже время, ряд её произведении принадлежат сугубо определенной эпохе и отражают её детали. Современному поколению они кажутся непонятными, неудачными и корявыми. Однако важно понимать, что непонимание отдельного произведение не делает поэта плохим. Поэзия Марины Цветаевой может быть лишь понятой и не понятой.
Так водном из своих известных стихотворений Марина Цветаева вспоминает своих бабушек. Одна из них была простой сельской попадьёй, другая гордой польской панне.
Обеим бабкам я вышла – внучка:
Чернорабочий – и белоручка!
Поначалу так причудливо сочетались в поэтессе две души, две стороны одной медали: восторженная барышня и своевольная строптивая "бунтарка".
Однажды Цветаева высказалась по поводу своей литературы: "Это дело специалистов поэзии. Моя же специальность – Жизнь". Жила она сложно и трудно, не знала и не искала ни покоя, ни благоденствия. Она знала себе цену как человеку и как поэту, но ничего не предпринимала, чтобы обеспечить себе жизнь и судьбу как поэта, так и человека.
Октябрьскую революцию Марина Цветаева не приняла и не поняла. Казалось бы, именно она со всей своей бунтарской натурой своего человеческого и поэтического характера могла обрести в революции источник творческого вдохновения. Пусть она не сумела бы понять правильно революцию, ее цели и задачи, но она должна была, по меньшей мере, ощутить ее как могучую и безграничную стихию.
Несмотря на все вышесказанное, Цветаева была жизнестойким и сильным человеком. Она писала: "Меня хватит еще на сто пятьдесят миллионов жизней"! Она жадно любила жизнь, и как положено поэту-романтику, предъявляла ей высокие требования:
Не возьмешь моего румянца,
Сильного, как разливы рек.
Ты охотник – но я не дамся,
Ты погоня – но я есмь бег.
Как человек глубоко чувствующий, Цветаева не могла избежать темы смерти в своей поэзии. Эта тема особенно громко звучала в её ранних стихах:
Послушайте! – Еще меня любите
За то, что я умру.
Однако очевидно, что уже тогда мотив смерти был противопоставлен пафосу и общему мажорному тону её поэзии. Она все-же неизмеримо больше думала о себе "такой живой и настоящей на ласковой земле".
Несмотря на её явное жизнелюбие, судьба была жестока к Марине Цветаевой. Одиночество сопровождало её всю жизнь. Но не в её стиле было страдать и упиваться собственной болью. Она говорила... "русского страдания мне дороже гётевская радость, и русского метания – то уединение...". Свои душевные терзания она прятала глубоко в душе под броней гордости и строптивости. На самом же дела всю жизнь она тосковала по простому человеческому счастью. М.И. Цветаева сказала однажды: "Дайте мне покой и радость, дайте мне быть счастливой, и вы увидите, как я это умею".
Цветаева-поэта не спутаешь ни с кем другим. Её стихи узнаются сразу и безошибочно благодаря особому распеву, неповторимому ритм у и необщей интонации.
Стихи Марины Цветаевой насквозь пропитаны страданиями, несбыточными мечтами и глубокой самоотдачей. Поэтесса представляет собой удивительный образец самопогруженности и отрешенности от внешнего мира с целью погружения в поэзию, в своё творчество.
Целому морю – нужно все небо,
Целому сердцу – нужен весь Бог.
Цветаева часто повторяла: " Для меня стихи дом". Этим своим домом она владела сполна, и оставила его непохожим на другие: обжитым и теплым. Населенный страстями, самобытный и редкость притягательный, щедрый для каждого, кто хочет отведать терпкой цветаевской музы.
Главное понимать – мы все живем в последний раз.
Иногда так сильно любишь человека, что хочется уйти от него. Посидеть в тишине, помечать о нем…
Единственный, кто не знаком с печалью – Бог. – М. Цветаева
У детей прошлое и будущее сливаются в настоящее, которое кажется незыблемым.
В жизни есть и другие важные вещи, не только любовь и страсть.
Цветаева: Иногда так хочется отдать душу за возможность отдать душу за что-нибудь.
Постоянная игра в жмурки с жизнью не приводит ни к чему хорошему.
Если взять будущих нас, то дети становятся старше, чем мы, мудрее. Из-за этого – непонимание.
Такое странное ощущение. Если рассматривать вас, как дорогого мне – останется лишь боль. Если считать вас чужим – добро. Но вы для меня ни тот, ни другой – я ни с кем из вас.
Женщины часто заводят в туман.
Продолжение красивых цитат Марины Цветаевой читайте на страницах:
Я – в жизни! – не уходила первая. И в жизни – сколько мне еще Бог отпустит – первая не уйду. Я просто не могу. Я всегда жду, чтобы другой ушел, все делаю, чтобы другой ушел, потому что мне первой уйти – легче перейти через собственный труп.
Я могу без Вас. Я ни девочка, ни женщина, я обхожусь без кукол и без мужчин. Я могу без всего. Но, быть может, впервые я хотела этого не мочь.
Я говорю всякие глупости. Вы смеетесь, я смеюсь, мы смеемся. Ничего любовного: ночь принадлежит нам, а не мы ей. И по мере того, как я делаюсь счастливой - счастливой, потому что не влюблена, оттого, что могу говорить, что не надо целовать, просто исполненная ничем не омраченной благодарности, - я целую Вас.
Мечтать ли вместе, спать ли вместе, но плакать всегда в одиночку.
Вы когда-нибудь забываете, когда любите – что любите? Я – никогда. Это как зубная боль – только наоборот, наоборотная зубная боль, только там ноет, а здесь – и слова нет.
Нужно писать только те книги, от отсутствия которых страдаешь. Короче: свои настольные.
Друг! Равнодушье – дурная школа! Ожесточает оно сердца.
Я никому не необходима, всем приятна.”
Самое ценное в жизни и в стихах - то, что сорвалось.
Доблесть и девственность! Сей союз. Древен и дивен, как смерть и слава.
“Никто не хочет – никто не может понять одного: что я совсем одна.
Любить человека – значит видеть его таким, каким его задумал Бог и не осуществили родители.
Знакомых и друзей – вся Москва, но ни одного кто за меня – нет, без меня! – умрет.
В мире ограниченное количество душ и неограниченное количество тел.
Гетто избранничества. Вал. Ров.
Пощады не жди.
В этом христианнейшем из миров
Поэты - жиды.
Если душа родилась крылатой -
Что ей хоромы - и что ей хаты!
Знаю все, что было, все, что будет,
Знаю всю глухонемую тайну,
Что на темном, на косноязычном
Языке людском зовется - Жизнь.
И если сердце, разрываясь,
Без лекаря снимает швы, -
Знай, что от сердца - голова есть,
И есть топор - от головы…
Императору - столицы,
Барабанщику - снега.
Некоторым без кривизн -
Дорого дается жизнь.
Не люби, богатый - бедную,
Не люби, ученый - глупую
Не люби, румяный - бледную,
Не люби, хороший - вредную:
Золотой - полушку медную!
Не стыдись, страна Россия!
Ангелы - всегда босые…
Пусть не помнят юные
О сгорбленной старости.
Пусть не помнят старые
О блаженной юности.
Сердце - любовных зелий
Зелье - вернее всех.
Женщина с колыбели
Чей-нибудь смертный грех.
Целому морю - нужно все небо,
Целому сердцу - нужен весь Бог.
А равнодушного – Бог накажет!
Страшно ступать по душе живой.
Бессрочно кораблю не плыть
И соловью не петь.
Благословляю ежедневный труд,
Благословляю еженощный сон.
Господню милость – и Господен суд,
Благой закон – и каменный закон.
Всех по одной дороге
Поволокут дроги –
В ранний ли, поздний час.
Горе ты горе, – солёное море!
Ты и накормишь,
Ты и напоишь,
Ты и закружишь,
Ты и отслужишь!
Горечь! Горечь! Вечный привкус
На губах твоих, о страсть! Горечь! Горечь!
Вечный искус –
Окончательнее пасть.
Гусар! – Ещё не кончив с куклами,
– Ах! – в люльке мы гусара ждём!
Дети – это мира нежные загадки,
И в самих загадках кроется ответ!
Есть некий час – как сброшенная клажа:
Когда в себе гордыню укротим.
Час ученичества – он в жизни каждой
Торжественно-неотвратим.
Женщина с колыбели
Чей-нибудь смертный грех.
За князем – род, за серафимом – сонм,
За каждым – тысячи таких, как он,
Чтоб пошатнувшись, – на живую стену
Упал и знал, что – тысячи на смену!
Зверю – берлога,
Страннику – дорога,
Мёртвому – дроги.
Каждому – своё.
Знай одно: что завтра будешь старой.
Остальное, деточка, – забудь.
И слёзы ей – вода, и кровь –
Вода, – в крови, в слезах умылася!
Не мать, а мачеха – Любовь:
Не ждите ни суда, ни милости.
И так же будут таять луны
И таять снег,
Когда промчится этот юный,
Прелестный век.
Каждый стих – дитя любви,
Нищий незаконнорожденный,
Первенец – у колеи
На поклон ветрам – положенный.
Кто в песок, кто – в школу.
Каждому – своё.
На людские головы
Лейся, забытьё!
Кто дома не строил –
Земли недостоин.
Кто приятелям не должен -Т
от навряд ли щедр к подругам.
Легче лисёнка
Скрыть под одеждой,
Чем утаить вас,
Ревность и нежность!
Любовь! Любовь! И в судорогах и в гробе
Насторожусь – прельщусь – смущусь – рванусь.
Люди, поверьте: мы живы тоской!
Только в тоске мы победны над скукой.
Всё перемелется? Будет мукой?
Нет, лучше мукой!
Мы спим – и вот, сквозь каменные плиты
Небесный гость в четыре лепестка.
О мир, пойми! Певцом – во сне – открыты
Закон звезды и формула цветка.
Не люби, богатый – бедную,
Не люби, учёный – глупую,
Не люби, румяный – бледную,
Не люби, хороший – вредную:
Золотой – полушку медную!
Одна половинка окна растворилась.
Одна половинка души показалась.
Давай-ка откроем – и ту половинку,
И ту половинку окна!
Олимпийцы?! Их взгляд спящ!
Небожителей – мы – лепим!
Руки, которые не нужны
Милому, служат – Миру.
Смывает лучшие румяна Любовь.
Стихи растут, как звёзды и как розы,
Как красота – ненужная в семье.
Уж вечер стелется, уже земля в росе,
Уж скоро звёздная в небе застынет вьюга,
И под землёю скоро уснём мы все,
Кто на земле не давали уснуть друг другу.
Я женщин люблю, что в бою не робели,
Умевших и шпагу держать, и копьё, –
Но знаю, что только в плену колыбели
Обычное – женское – счастье моё!
Осыпались листья над Вашей могилой,
И пахнет зимой.
Послушайте, мертвый, послушайте, милый:
Вы всe-таки мой.
Смеетесь! – В блаженной крылатке дорожной!
Луна высока.
Мой – так несомненно и так непреложно,
Как эта рука.
Опять с узелком подойду утром рано
К больничным дверям.
Вы просто уехали в жаркие страны,
К великим морям.
Я Вас целовала! Я Вам колдовала!
Смеюсь над загробною тьмой!
Я смерти не верю! Я жду Вас с вокзала –
Домой.
Пусть листья осыпались, смыты и стерты
На траурных лентах слова.
И, если для целого мира Вы мертвый,
Я тоже мертва.
Я вижу, я чувствую,-чую Вас всюду!
– Что ленты от Ваших венков! –
Я Вас не забыла и Вас не забуду
Во веки веков!
Таких обещаний я знаю бесцельность,
Я знаю тщету.
– Письмо в бесконечность. – Письмо
в беспредельность-
Письмо в пустоту.
Моя душа чудовищно-ревнива: она бы не вынесла меня красавицей.
Говорить о внешности в моих случаях – неразумно: дело так явно, и настолько – не в ней!
– Как она Вам нравится внешне? – А хочет ли она внешне нравиться? Да я просто права на это не даю, – на такую оценку!
Я – я: и волосы – я, и мужская рука моя с квадратными пальцами – я, и горбатый нос мой – я. И, точнее: ни волосы не я, ни рука, ни нос: я – я: незримое.
Чтите оболочку, осчастливленную дыханием Бога.
И идите: любить – другие тела!
– Карл Великий – а может быть и не Карл Великий – сказал: “С Богом надо говорить – по-латыни, с врагом – по-немецки, с женщиной – по-французски…” (Молчание.) И вот – мне иногда кажется – что я с женщинами говорю по-латыни…
Есть вещи, которые мужчина – в женщине – не может понять. Не потому, что это ниже или выше нашего понимания, дело не в этом, а потому, что некоторые вещи можно понять только изнутри себя, будучи.
Действующих лиц в моей повести не было. Была любовь. Она и действовала – лицами.
Любить – видеть человека таким, каким его задумал Бог и не осуществили родители.
Не любить – видеть человека таким, каким его осуществили родители.
Разлюбить – видеть вместо него: стол, стул.
Знаете для чего существуют поэты? Для того, чтобы не стыдно было говорить самые большие вещи.
“У каждого из нас, на дне души, живет странное чувство презрения к тому кто нас слишком любит.
(Некое “и всего-то”? – т.е. если ты меня так любишь, меня, сам ты не бог весть что!)
Может быть потому что каждый из нас знает себе настоящую цену.”
“Страшный дар” Марины Цветаевой.
”И мы угадываем всегда
вырождение души там,
где нет дарящей души.”
"Всю меня в простоволосой
радости моей прими.”
М.Цветаева
О себе Марина Ивановна Цветаева написала однажды так: “Я знаю себе цену: она высока у знатока и любящего, ноль - у других, ибо (высшая гордость) не держу “марки”, представляю держать - мою - другим”. И еще признание: “Я не люблю жизни как таковой, для меня она начинает значить, т.е. обретает смысл и вес - только преображенная, т.е. - в искусстве. Если бы меня взяли за океан - в рай - и запретили писать, я бы отказалась от океана и рая. Мне вещь сама по себе не нужна”.
Сегодня о ее творчестве спорят и говорят много. Но все домыслы и суждения часто разбиваются о нее саму - такую пронзительно очевидную, всем доступную, но вместе с тем не подвластную и не подотчетную никому. Цветаева сказала о себе самой слишком много, сумела не раскрыть главной пленительной тайны. Это тайна крылатости.
“Что я поистине крылата,
Ты понял - спутник по судьбе.
Но, ах, не справиться тебе
С моею нежностью проклятой”, -
Предостерегает она каждого, кто рискнет, влюбившись в ее стихи, разгадать ее душу.
Ее путь - путь “мечты и одиночества”, глухого страдания и безумной пляски. Он игрив и цветаст, но при этом и тоскливо безлюден. В нем царствует лишь она сама - Поэт и Гений - руководимая каким-то прекрасным, но ложным Учителем.
“По волнам - лютым и вздутым,
Под лучом - гневным и древним,
Сапожком - робким и кротким -
За плащом - лгущим и лгущим”.
Цветаева ждет, но, увы, не находит спутников по судьбе.
Что же определяет сущность цветаевского поэтического творчества? Прежде всего искренность и уникальность ее оценок, жестов, поведения, судьбы в целом. Может показаться, что Цветаева - поэт вне художественной традиции, сумевший начать свой путь “с нуля”. Для таких догадок есть основания.
Цветаева не просто талантливый лирик начала ХХ века. Она - крупнейший романтический поэт уходящего столетия. Романтизм ее творчества возрос на оригинальной философской почве. В значительной мере она пренебрегла русской классической традицией. При этом ее дух оказался равновеликим духу самого А.Пушкина, ее талант соперничает с даром Ахматовой и Пастернака - поэтов ярко выраженной классической ориентации.
Интересно задуматься над религиозным смыслом поэзии М.Цветаевой. Как реализуется в ее лирике тема Бога, христианского смирения, греховности, искупления вины?
В большой степени философские и эстетические воззрения поэтессы перекликаются со взглядами на мораль и духовную истину известного философа Ф.Ницше. На поверхности сходство поэтической образной системы двух поэтов. Откроем наугад Ницше.
”Правда, мы любим жизнь, но не потому, что к жизни, а потому, что к любви мы привыкли.”
”Являешься ли ты чистым воздухом, и одиночеством, и хлебом, и лекарством для своего друга? Иной не может избавиться от своих собственных цепей, но является избавителем для друга.
Не раб ли ты? Тогда ты не можешь быть другом. Не тиран ли ты? Тогда ты не можешь иметь друзей.”
“И даже ваша лучшая любовь есть только восторженный символ и болезненный пыл. Любовь - это факел, который должен светить вам на высших путях.
Когда-нибудь вы должны будете любить дальше себя! Начните же учиться любить! И оттого вы должны были испить горькую чашу вашей любви.
Горечь содержится в чаше даже лучшей любви. Так возбуждает она тоску по сверхчеловеку, так возбуждает она жажду в тебе, созидающем!”
Наверное, в книгах немецкого философа можно отыскать строфы и более соответствующие цветаевскому темпераменту, но даже это - во многом случайное! - напоминает ее пафос, систему ее этических ценностей, ее душевную драму.
И Цветаеву, и Ницше привлекают фигуры бесстрашных канатоходцев, отшельников, сильных духом рыцарей. Она также, как и автор “Заратустры” ненавидит мещан и “добрых” подлецов, стремится в “горы”, презирает “болота”, ищет духовных сподвижников, страдает от разочарования в ближних, рвется сердцем к дальним, испытывает счастье в полете.
Настроение поэтессы, ее ориентированность на одинокое избранничество, неизбежная отверженность от “мира сего” объясняются и естественной природой самого лирического дара и сложившейся в начале ХХ века предгрозовой революционной ситуацией. Цветаева, как и многие ее современники, вышла навстречу роковому столетию с открытым забралом - какова уж есть!
Она, безусловно, романтик по существу испытываемых ею художественных и даже человеческих состояний. При этом, повторимся, оригинальна. Задумаемся над тем, что в Цветаевой нет ни всерьез воспринятого демонизма романтиков ХIХ века (Лермонтов, Байрон, Гейне), ни религиозной экзальтации соловьевцев-символистов, ни преображенного в новую коммунистическую веру христианства (Есенин, Платонов), ни спасительной натурфилософии (Заболоцкий), ни футуристических порывов Маяковского. Цветаева начинает, идет и завершает свой путь в достойном романтического Гения одиночестве. Как не вспомнить признание Ницше: “О, одиночество! Ты, отчизна, моя, одиночество! Слишком долго я жил диким на дикой чужбине, чтобы не возвратиться со слезами к тебе!” У Цветаевой много подтверждения того, что удел поэта - удел пустынника, умеющего по-настоящему ценить один дар - дар свободы.
”Я знаю правду! Все прежние правды - прочь!” - решительно отделяет она себя от других. И эта правда в том, что в страшную эпоху войны и разрушения “воскресения” не будет и искупить грех никому никогда не удастся. Единственная реальность - смерть: “под землей скоро уснем мы все, кто на земле не давали уснуть друг другу”. А если так, то от земной жизни нужно успеть взять самое замечательное: любовь, не знающую границ, творчество, не ведающее меры. Словом, крылато и на одном дыхании прожить (перестрадать!) свою романтическую судьбу!
“Быть как стебель и быть как сталь
В жизни, где мы так мало можем”, -
Вот желанный предел поэта. Это достигается ценой нечеловеческого напряжения сил. Это - стремление к тому, что люди обычно считают невозможным или несбыточным.
Ее требования к своему назначению чрезвычайно высоки. Известно, каким замечательно возвышенным и вместе с тем мучительно неразделенным в полной мере был духовный союз Марины Ивановны с Борисом Леонидовичем Пастернаком. В ее письмах к нему мы находим то, каким хотела бы она его видеть в будущем, какую сверхцену давала его поэтическому дару. Резонно предположить, что такие требования она предъявляла к себе. Более того, для нее они просто норма. Именно так представляла Цветаева идеального чудо-поэта, способного всецело отдаться творческому замыслу. Она пишет Пастернаку: “Я же знаю, что Ваш предел - Ваша физическая смерть”. И еще: “Вам нужно писать большую вещь. Это будет Ваша вторая жизнь, первая жизнь, единственная жизнь... Вы будете страшно свободны”. К сожалению (или к счастью?), отношение к “работе” у Цветаевой и Пастернака было различным. Он не мог смириться с тем, что “единственно чистое и безусловное место составляет работа”, Пастернаку был необходим еще и презираемый Цветаевой “обиход” - жизнь во всех ее мелочах, подробностях, обидах и обретениях. Цветаева романтически не внимала “Богу деталей”, Пастернак рьяно служил, может быть, ему одному. Вот почему при всем уважении к цветаевской гениальности он часто испытывал и страх перед ее даром. Примем к сведению одно его замечание в письме: “Про страшный твой дар не могу думать. Догадаюсь когда-нибудь, случится интуитивно”.
“Страшный дар”... Точное определение. Тревоги Пастернака жестоко оправдались трагической судьбой Марины Цветаевой.
А начиналось все с румяного московского детства. С тех пор, как начинает себя осознавать, Цветаева увлечена необычным, непревзойденным, недозволенным взрослыми или самим законом. Ее привлекает красота рыцарства и жуть романтических - чаще всего немецких! - сказок. Любимая героиня Марины-девочки - несчастная и прелестная Ундина. Мир детства - мир книжного вымысла. Мечта не ведает запретов, реальное часто подменяется желанным. Дочь известного в Москве профессора не стесняется казаться в глазах окружающих фантазеркой, притворщицей, да что там! - опасной лгуньей. Об этом - многочисленные воспоминания ее близких, подруг, врагов. Об этом - с нескрываемым трепетом и она сама:
“Мы старших за то презираем,
Что скучны и просты их дни...
Мы знаем, мы многое знаем
Того, что не знают они.”
“Характер Марины был не из легких - и для окружающих, и для нее самой. Гордость и застенчивость, упрямство и твердость воли, непреклонность, слишком рано возникшая потребность оградить свой мир”, - утверждает одна из самых проницательных исследователей цветаевского феномена Виктория Швейцер (“Быт и бытие Марины Цветаевой”, с.41).
Цветаева трудна и уникальна. Память о детстве - безоглядная вера в благородные порывы, красивые жесты, безрассудные чудачества - останется в ней навсегда, до самого рокового августовского дня сорок первого года, не пережитого ею в татарской Елабуге.
В желании утвердить себя ценой поступка, шокирующего благовоспитанную светскую публику, Марина Цветаева схожа с ранним Владимиром Маяковским, поэтом-бунтарем, городским глашатаем-пророком, уличным хулиганом - из презрения к сытым буржуа. Разница между ними, пожалуй, в том, что Маяковский, прибегая к эпатажу, разрушает мир вокруг себя; Цветаева же, напротив, создает внутри себя свой, никого туда не пуская. У раннего Маяковского нет, кажется, никаких тайн, он открыт и доступен, у Цветаевой - сплошные тайны, явные тем не менее каждому любопытствующему глазу.
Марина - маленькая “преступница”, с детских лет воюющая с любой из традиций, часто не умеющая сладить со своим любимым “чертом” - демоном свободы. Поведение Цветаевой изначально греховно, она становится в мире даже близких ей людей “иной”. Таких обычно именуют “белыми воронами”. По сути же они - “не от мира сего”.
Обратимся к одному из ранних цветаевских стихотворений - “Молитве”(1909):
“Христос и Бог! Я жажду чуда
Теперь, сейчас, в начале дня!
О, дай мне умереть, покуда
Вся жизнь как книга для меня.
Ты мудрый, ты не скажешь строго:
“Терпи, еще не кончен срок”.
Ты сам мне подал - слишком много!
Я жажду сразу - всех дорог!”
Каждый, кто вдумается в эти строки, согласится, что содержание их бунтарское. Юная поэтесса не желает подчиняться Богом данному совету: “Терпи, еще не кончен срок”. Она смело и нетерпеливо заявляет о своих самостоятельных желаниях:
“Всего хочу: с душой цыгана
Идти под песни на разбой,
За всех страдать под звук органа
И амазонкой мчаться в бой,
Гадать по звездам в черной башне,
Вести детей вперед, сквозь тень...
Чтоб был легендой - день вчерашний,
Чтоб был безумьем каждый день!”
Нельзя не признать, что это перечень весьма преступных для христианина мечтаний. Цветаева опрометчиво соглашается на “безумие” каждого дня, лишь бы он не обернулся утомительной и бездарной житейской скукой. Марина Ивановна Цветаева уже в свои немногие 17 лет знает, что ее настоящая и будущая “безмерность” - не от Бога смирения и покоя. С христианскими заповедями ей, увы, не сладить. Она слишком и навсегда своевольна. Детство стало почти непозволительной по вседозволенности сказкой. Если и дальше жить по закону: “моя душа мгновений след”, то расплатой за такую свободу может и должно стать божье наказание. И все-таки ей всегда мило будет лишь “начинать наугад с конца, и кончать еще до начала”. А если благословлять на что-либо любимых, то тоже только на свободу, - “на все четыре стороны!”
Кто-то скажет, что подобная экзальтация чувств свойственна подросткам, особенно тем из них, кто неравнодушен к поэзии. Конечно, это так. Но Марина Цветаева отличается от своих сверстников исключительной серьезностью взятого ею тона. Раз и навсегда она “отдалась роковому лучу”, избрала “крылатость” как неприкаянность души и свободу духа.
“Роковым лучом” освещен ее смелый путь, но при этом он и не освящен ничем, кроме, пожалуй, сиюминутного страстного увлечения, принятого ею за единственную предназначенную Судьбою любовь. Рок - страшный и сладкий - преследует и гонит цветаевскую героиню, как безумную от слепой страсти античную Федру или Андромаху - от одной бездны к другой. В ней все “каторжные страсти слились в одну”, в ее душе лишь “безнадежность ищет слов”. Цветаева сознательно отдаляет и отделяет себя сразу ото всех. Она способна на чудо, но за него расплачивается нечеловеческой бледностью лица. “Легонькая стопка восхитительных стихов” дорого стоит, цена ей - жизнь.
Цветаева и жизнь - вопрос непростой и мучительный. Она узнает ее по “дрожанью всех жил”, жизнь для нее не длится - рвется, она поминутна. И каждое мгновение исполнено какого-то важного духовного свершения. Ничего не происходит “просто”, все имеет смысл. “Жизнь: распахнутая радость поздороваться с утра”. Это очень похоже на знаменитую онегинскую “формулу” любви. Помните: “Я утром должен быть уверен, что с вами днем увижусь я”. Так говорит впервые в жизни по-настоящему влюбленный Онегин. Сам Пушкин усомнится в счастье, для него пределом желаний будут, как известно, покой и воля. Марина Цветаева как будто всегда знала и знает, что разговоры о душевной пристани - ложь. Она признает только романтический тон в разговоре о сердечных порывах.
В ней - и совсем еще юной и уже в полной мере познавшей горечь разочарований - есть нечто от пишущей письмо все тому же, но еще отнюдь не пылающему страстью Онегину Татьяны. Она, как знаменитая героиня, способна догадаться о том, что выбор ее сердца хоть и привлекателен, но ложен (“А может, это все пустое? Обман неопытной души. И суждено совсем иное?”) Но понимая разумом весь риск затеянного, Татьяна бросается в любовное объяснение, как в омут, без оглядки. Такова и Цветаева. Бездна чувств любезна ей. Всю свою жизнь Марина Ивановна, как и пушкинская Татьяна в ту роковую минуту, будет искушаться Чудом - желанной платой за проявленную смелость поступка.
Но Чуда не происходит. Татьяна не без мудрой помощи Пушкина избегает окончательного падения в пропасть безрассудной любви, счастливо минует ее и прилипчивая житейская пошлость. Ларина обретает нормальный человеческий удел: семью, возможное материнство. Пушкин призовет свою избранницу исполнить божий закон - общий для всех христиан.
Цветаева же при всех поворотах своей судьбы (она была и невестой, и супругой, и матерью троих детей) останется неусмиренной, не покорной чужой воле. Она так и не примет божьего мира с его щедрой благодатью. В одном из своих поэтических признаний будет гордо именовать себя и таких, как она, “прогулявшими небеса”.
Справедливости ради надо сказать, что иногда поэтесса обращается в стихах к Богу. Она не исключает даже того, что когда-нибудь, устав от друзей и врагов, наденет “крест серебряный на грудь” и пойдет вместе с другими “по старой дороге, по Калужской”. Поэтесса осознает эту общую участь. Но она - для уставших сердцем. “Зверю - берлога, страннику - дорога, мертвому - дроги. Каждому - свое! “ - вот, что не перестает твердить себе она и тем, кто слушает ее поэтические “бредни”. Ей милее те места на земле, где “темный свой пир справляет подполье”. Она так “хочет”, а Бог вправе поступить с нею так, как “ему захочется”. Ее дело - идти в страну “мечты и одиночества”, его - Божья воля - оглянуться на нее или пренебречь ею. И тогда - “вздох от нас останется”.
Более Бога Цветаева, быть может, почитала своего кумира - Пушкина. Но важно осознавать, что боготворя поэта, она восприняла его по-своему, то есть чисто романтически. Она проигнорировала то, что Пушкин умел ценить жизнь простого обывателя. Он в силах был увидеть сначала и прежде всего “мир”, а потом уже свое “я” в нем. В позднем Пушкине соединилось все, что составляет человеческое бытие: и философия, и правда, и мечта, и бунт, и покорность Богу. Цветаева к деталям быта и реалиям жизни “не снизошла”. Она - гениальный романтик. Не больше и не меньше того.
Почему так? Цветаева упряма в своем “безумии” скорее всего оттого, что рождена в мире не только “без Бога” (Ницше это все-таки гениально понял для всех, кто пришел в ХХ век), но и “без Пушкина”. Быть “нормой”, увы, не выходит. Не только “не модно”, но и ложно по самой сути.Цветаева как театральные костюмы примеривает на себя судьбу “каторжанки”, “острожницы”, “матросской девки”. Она не ценит ни внешнего благополучия, ни внутреннего покоя. Цветаева мнит себя отважным танцором-канатоходцем, идущим к призрачной цели. “Пляшущим шагом прошла по земле! - Неба дочь!” - гордо заявит она о себе. Голос - поэтесса уверена в этом! - дан ей, а значит, все “остальное взято”. И можно полагаться только на собственное бесстрашие. Только так - почти вслепую - пройдешь дарованный не богом, а загадочным Гением-Учителем путь до конца. Тогда-то и свершится Чудо - абсолютная Свобода как абсолютный творческий восторг. То редкое и радостное состояние, когда нужен рядом либо равный по духу, либо никто. И это - самое “страшное” из всего, что можно прозреть в ее облике. “Мне все равно, куда лететь, - пишет она Пастернаку. - И, может быть, в этом моя главная безнравственность (небожественность).” И дальше: “Знаешь, чего хочу - когда хочу. Потемнения, посветления, преображения. Крайнего мыса чужой души и своей. Слов, которых никогда не услышишь, не скажешь. Небывающего Чудовищного. Чудо.”
Поиск равного не прекращался для нее никогда, по сути своей он был трагическим: равного не оказалось вовсе. И все-таки... Сфера ее пристального внимания - известные герои, преступники, опальные поэты, народовольцы, революционеры, легендарные сердцееды.
Для нее хорош и Гришка Отрепьев, и Степан Разин, и Жанна Д’Арк, и Казанова, и “лебединый стан” мальчиков-белогвардейцев. Всех избранников цветаевской души объединяет одно - преданность духу любви, отчаянная греховность. Ей нравятся те, кто способен летать. “Лети, молодой орел!” - восторженно приветствует она юного Мандельштама. Цветаевой близок романтический Блок. Его она называет так - “вседержатель моей души”, Блока мечтает спасти от грядущего христианского Воскресения, вырвать из тисков смерти, преодолеть ее:
“Рвануть его! Выше!
Держать! Не отдать его лишь!”
В Блоке нравится все та же крылатость. Его трагедия - трагедия разбившегося о пошлую землю ангела. Жизнь - люди! - изуродовали певца (“Не чинят крыл. Изуродованный ходил”). Она готова молиться за воскрешение Блока, но хотела бы вернуть его только небу - безмерной синеве. Своим сверхусилием Цветаева пытается дать певцу новую жизнь, но надежды на будущий легкий творческий полет у нее все же нет. Отсюда - горькое раздумье о том, что, может, “ложен... подвиг и даром - труды?” Таким, как Блок и она, трудно среди людей. Сложно жить по романтическому закону: если ты не против всех, то все против тебя. Цветаева самостоятельна. Этого не прощают ни друзья, ни Боги.
Поэтесса с каждым годом все острее чувствовала свою отторженность от других. В мире обыкновенных людей ей с рождения скучно. Цветаева умеет быть беспощадной к “дачнику”, “лавочнику”, ко всем тем, кто способен жить “в жизни, как она есть”. Это ведь про них - “каждый и отч, и зряч”, про них - “качаются - тщетой накачиваются”, они ждут “любви, не скрашенной ни разлукою, ни ножом”. В ее мире такой любви не бывает.
В нем все выпукло и преувеличено, нюансов нет. Для Марины Цветаевой “бог - слишком бог, червь - слишком червь, кость - слишком кость, дух - слишком дух”.
“Диалектика души” - это то, что вряд ли привлекает художников-дарителей. Тип Цветаевой - именно такой тип. “Дарители” способны разбазаривать себя, не умея залечивать “добром” и “молитвой” собственные душевные раны. “Дарителей” мало. Среди них, бесспорно, Маяковский, мятежный Есенин, наш бесстрашный современник Владимир Высоцкий, может быть, безмерно искренний в плохом и хорошем Евтушенко. Да, все они не склонны к мучительному самоанализу, хотя их творчество и изобилует исповедями. Но исповедуются они лишь в одном - невозможно стать и быть другими - как все. Такие художники уверенно чувствуют себя лишь на краю нешуточной “гибели”, их судьба - череда крайностей: взлеты, падения, разочарования, победы.
Вся поэтическая судьба Марины Цветаевой, по ее собственному признанию, уместится в три междометия: “ах!”, “ох!”, “эх!”
“Емче органа и звонче бубна
Молвь - и одна на всех:
Ох - когда трудно, и ах - когда чудно,
А не дается - эх!”
“ Ах: разрывающееся сердце.
Слог, на котором мрут.
Ах, это занавес - вдруг - разверстый.
Ох: ломовой хомут.”
Земное содержание исчерпывается для Цветаевой быстро, высшее - трагедийное - требует каких-то особенных средств своего воплощения. Отсюда - с каждым годом возрастающая усложненность ее поэтического языка. Говоря все более и более о простых в ее понимании вещах и явлениях, Цветаева становится все менее доступной рядовому читателю. Она настойчиво торит дорогу не от “сложного” романтического к “простому” реалистическому (так шли Пушкин, Пастернак, Заболоцкий), а от романтически еще простого (детские сны, фантазии) к романтически невозможному, по сути, сверхчеловеческому.
“Вы - человек... какую нечеловечески огромную роль Вы сыграли в моем существовании”, - признается в одном из писем влюбленный в ее человеческую неординарность, но постоянно тревожащийся за ее земную незащищенность Пастернак.
На то, чтобы воплотить ценой сверхусилия себя и тех, кого любила, Цветаева была способна. Может быть, только в этом и заключалось ее предназначение.
В “Разговоре с гением” как бы подведет итог:
“Коли двух строк
Свесть не могу?”
“ - Кто когда - мог!!” -
“Пытка!” - “Терпи”.
“Скошенный луг -
Глотка!” - “Хрипи:
Тоже ведь - звук!”
“Львов, а не жен
Дело.” - “Детей:
Распотрошен -
Пел же - Орфей!”
“Так и в гробу?”
- “И под доской”.
“Петь не могу”.
- “Это воспой!”
Это ли не сверхнапряжение, воплощенное в жизнь? Такого не найти в призывах самого Пушкина. “Глаголом жги сердца людей!”- все-таки нечто иное. Пророку Пушкина есть, что сказать людям. Цветаевой - гостье ХХ века - часто не о чем и некому говорить. Может быть, поэтому она мечтает в следующий раз прийти на землю глухонемой:
“ведь все равно - что говорю - не понимают,
Ведь все равно - кто разберет? - что говорю”.
А суть, наверное, вовсе не в стихах, а в цветаевском “страшном даре”. Не испугавшись бездны, она сумела отдать ей всю себя. Читатели приняли этот подарок на свой скромный обывательский счет.
Охотников повторить ее путь не находится среди живущих поэтов. Погибшие же унесли с собой тайну последнего свободного прыжка в бездну.
“Доктора узнают нас в морге
По не в меру большим сердцам.”
Романтикам - романтическое.